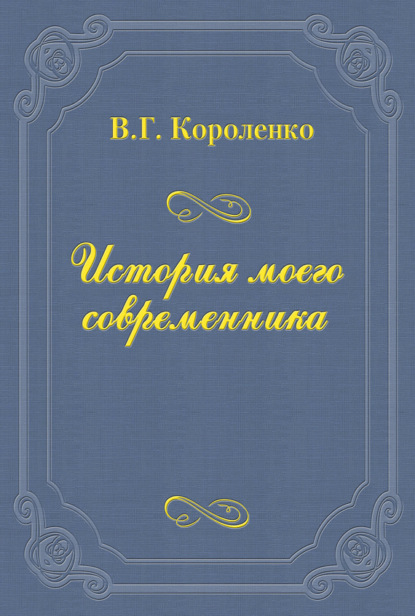По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моего современника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что, батенька? Тоже срезались?
– Срезали, п – подлецы, – сказал Конахевич с натиском. – Но я отомщу… Отомщу ужасно.
Кордецкий насмешливо посмотрел на меня и оказал:
– Ну, Конахевич. Я – фразер, а вы вдесятеро.
– Фразер? Что такое фразер? – спросил Конахевич быстро. Кордецкий усмехнулся и пожал плечами… Он гордился словом, которого Конахевич даже не понимает…
– Я имею перед вами то преимущество, – сказал он, и опять скорбный нимб лег на его челе, – что, по крайней мере, сознаю, что я такое…
У молодости есть особое, почти прирожденное чувство отталкивания от избитых дорог и застывающих форм. На пороге жизни молодость как будто упирается, колеблясь ступить на проторенные тропинки, как бы жалея расстаться с неосуществленными возможностям». Литература часто раздувает эту искру, как ветер раздувает тлеющий костер. И целые поколения переживают лихорадку отрицания действительной жизни, которая грозит затянуть их и обезличить.
Конахевич читал Словацкого. Кордецкий знал наизусть «Героя нашего времени» и имел некоторое понятие о «Дон – Жуане»[162 - «Дон-Жуан» – роман в стихах Байрона.]. Оба были романтики. Пусть преступник, но не обыкновенный обыватель. Байроновский Лара тоже преступник. Пусть фразер. Рудин тоже фразер. Это не мешает стоять на некоторой высоте над средой, которая даже не знает, кто такой Лара и что значит фразер.
Но в сущности и романтизм, и печоринство уже выдохлись в тогдашней молодежи. Ее воображением завладевали образы, выдвигаемые тогдашней «новой» литературой, стремившейся по – своему ответить на действительные вопросы жизни.
У обществ бывают свои настроения и предчувствия. Такое настроение, смутное, но широко охватывающее всех, и дает то, что принято называть «духом времени». В начале шестидесятых годов великая реформа всколыхнула всю жизнь, но волна обновления скоро начала отступать. То, что должно было пасть, не упало окончательно, что должно было возникнуть, не возникло вполне. Жизнь повисла на мертвой точке, и эта неопределенность кидала свою тень на общее настроение. Дорога, на которую страна так радостно выступала в начале десятилетия, упиралась в неопределенность. Невольно чувствовался впереди кризис, неизбежность потрясений и героических усилий.
В наличности не было сил для разрешения кризиса. Оставалась надежда на будущее, на что-то новое, что придет с этим будущим, и прежде всего на «нового человека», которого должны выдвинуть молодые поколения.
Молодежь стала предметом особого внимания и надежд, и вот что покрывало таким свежим, блестящим лаком недавних юнкеров, гимназистов и студентов. Поручик в свеженьком мундире казался много интереснее полковника или генерала, а студент юридического факультета интереснее готового прокурора. Те – люди, уже захваченные колесами старого механизма, а из этих могут еще выйти Гоши[163 - Гош Лазар (1768–1797) – французский полководец эпохи буржуазной революции 1789–1794 годов во Франции.] или Дантоны[164 - Дантон Жорж (1759–1794) – знаменитый деятель французской революции, адвокат по профессии.]. В туманах близкого, как казалось, будущего начинали роиться образы «нового человека», «передового человека», «героя».
В действительной жизни этих необыкновенных героев еще не было: «почувствовать» их, созерцать творческим воображением было невозможно. Приходилось не воссоздавать, а выдумывать, живость изображения заменять одушевлением ожидания и веры. Поэтому первостепенные художники за эти задачи не брались. Первый план художественной литературы все еще занимали Лаврецкие и Рудины с их меланхолически – отрицательным отношением к действительности и туманными предчувствиями. Тургенев в «Накануне» гениально отметил это ожидание, но «героя» все-таки увел за границу. Из русской действительности по – прежнему брались отрицательные типы, и даже Добролюбов только спрашивал с горечью: «Когда же придет настоящий день?..» Зато второй план художественной литературы с половины шестидесятых годов заполняется величаво – мглистыми очертаниями героев – великанов… И это было на обеих сторонах: герои прогрессивной беллетристики несли разрушение старому миру. Художники – консерваторы звали своих героев на его защиту… Будущее кидало впереди себя свою тень, и мглистые образы сражались в воздухе задолго еще до того времени, когда борьба назрела в самой жизни.
Среди этой литературы выделялись «Знамения времени» Мордовцева[165 - Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905) – историк, беллетрист и публицист. Его роман «Знамения времени» из жизни русской передовой интеллигенции пользовался большой популярностью в начале 70-х годов.] и «Шаг за шагом» Омулевского[166 - Омулевский (псевдоним Федорова Иннокентия Васильевича) (1836–1883) – поэт, беллетрист.] («Что делать?» Чернышевского[167 - «Что делать?» – роман Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889) появился в журнале «Современник» в 1863 году и был восторженно принят молодым поколением.] я прочел гораздо позже). Мордовцев был писатель не вполне искренний и сильно «себе на уме». Молодежь восхищалась его «Историческими движениями русского народа»[168 - «Историческими движениями русского народа» – настоящее название этой книги исторических монографий Д. Мордовцева – «Политические движения русского народа»; вышла в 1871 году.], не замечая, что книга кончается чуть не апофеозом государства, у подножия которого, как вокруг могучего утеса, бьются бессильные народные волны. Он приводил в восхищение «областников» и «украинофилов» и мог внезапно разразиться яркой и эффектной статьей, в которой доказывал, что «централизация» – закон жизни, а областная литература обречена на умирание. Свой роман он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь роман неуловимый для цензора, но ясно ощутимый покров «революционности». Можно было подумать, что автору и его героям выход из современного положения ясен, и если бы не цензура, то они бы его, конечно, указали… Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора. В качестве грядущей революционной силы в тумане рисовались… какие-то, кажется, уральские артели…
Омулевский был гораздо искреннее и проще. От его романа веяло молодой верой и какой-то особенной бодростью. Слабохарактерный, спившийся, погибавший, он как бы раздваивался в своем произведении: себя он вывел в лице доктора, мрачного меланхолика, страдающего запоем, безнадежно загубленного уже мраком окружающих условий, но благословляющего своего молодого друга Светлова на новую жизнь и борьбу. В Светлове, как об этом свидетельствует уже самая фамилия, воплощена вера в будущее. Он бодр, силен, светел. Все ему удается, все преклоняются перед его знаниями, характером, особенной удачливостью.
Он живет в сибирской глуши (кажется, в ссылке), работает в столичных журналах и в то же время проникает в таинственные глубины народной жизни. Приятели у него – раскольники, умные крестьяне, рабочие. Они понимают его, он понимает их, и из этого союза растет что-то конспиративное и великое. Все, что видно снаружи из его деятельности, – только средство. А цель?..
Об этом спрашивает молодая женщина, «пробужденная им к сознательной жизни». Он все откроет ей, когда придет время… Наконец однажды, прощаясь с нею перед отъездом в столицу, где его уже ждет какое-то важное общественное дело, – он наклоняется к ней и шопотом произносит одно слово… Она бледнеет. Она не в силах вынести гнетущей тайны. Она заболевает и в бреду часто называет его имя, имя героя и будущего мученика.
Слово, которое герои Мордовцева закутывали эзоповскими намеками и шарадами, а Светлов шепнул на ухо любящей женщине, – было, конечно, «революция». Это оно стояло впереди, как туча, издали поблескивая своими молниями, на горизонте общества, вышедшего из крепостного строя и остановленного на пути к всестороннему раскрепощению… Как это будет?.. Когда будет? Это было неясно. Будет как-то… Будет скоро. Сделают это новые люди из «молодежи». А за ними, из неведомых деревень, из лесов, из недр раскола и «общины» двинется загадочный и никому неизвестный «народ»…
Много в этом было наивного, и революционные планы даже серьезных людей того времени кажутся теперь совершенно ребяческими. Однако «дух времени» шел неуклонно своим путем. Обе стороны литературы указывали вперед на загадочную тучу: консерваторы – со страхом, прогрессисты – с надеждой. Инстинкт молодежи все больше удерживал ее от проторенных дорог, сопротивление «принятию жизни» росло. Поколение за поколением выходили из «толстовских» гимназий и, точно в кипящий поток, кидались в бурную университетскую полосу. Кто успевал пройти ее, тот более или менее сливался с жизнью. Из недавних протестантов выходили прокуроры, инженеры, управляющие, часто с улыбкой вспоминавшие о своих «молодых увлечениях». А на их месте уже кипели другие, для которых настала своеобразная очередь этой повинности…[169 - А на их месте уже кипели другие, для которых настала своеобразная очередь этой повинности… – В первоначальной редакции («Русское богатство», 1908, № 10) это место заканчивалось так: «И с каждым десятилетием волнение росло, пока назрело движение семидесятых годов, потрясшее все общественное здание небывалыми эпизодами борьбы одинокой еще интеллигенции. Это и было оправданием смутных предопределений: „молодежь“, во-первых. А теперь, когда туча уже надвинулась и охватывает в событиях последних годов весь горизонт нашей жизни, мы слышим первые зловещие раскаты: это „народ“, во-вторых, выступает своей тяжелой поступью на арену общественной жизни… „Смутные предчувствия“ шестидесятых и семидесятых годов оказались далеко не такими наивными, как могло казаться иному „трезвому“ взгляду…»]
С «Знамениями времени» и «Шаг за шагом» я познакомился тоже на каникулах в Гарном Луге. Читали громко, и даже старики – капитан с женой – слушали с некоторым благоговением повествования о «новой молодежи». Так как это отчасти совпало с религиозной полемикой, то сначала я к этой литературе отнесся скептически. Авдиев на мой вопрос о Писареве отозвался, как о задорном мальчишке. Белинский и особенно Добролюбов оставались для меня высшими авторитетами, а Тургенева я любил фанатично. Его герои были живые люди, у Мордовцева по сравнению с ними выходили деревяшки. Один из них, носящий кличку «Точеная голова», подает «барышне» стул. Барышня обижается: значит, ее не считают равным человеком. Герой объясняет: его поступок – разумно – эгоистичен. Барышня упадет в обморок, и ему же придется возиться с нею. Одна из героинь рекомендует себя: я переросла Веру Павловну (из «Что делать?»). Все это казалось мне неестественно и деланно. Светлов Омулевского с его отвлеченной удачливостью тоже порой напоминал хорошо вычищенный таз, а постоянное любование им автора давало сильный привкус антихудожественности. Вообще это были не лица, как у Тургенева, Писемского, Гончарова, а личности, с прибавлением ходячего эпитета: «светлые личности».
Они не овладевали поэтому моим воображением, хотя какой-то особый дух, просачивавшийся в этой литературе, все-таки оказывал свое влияние. Положительное было надуманно и туманно. Отрицание – живо и действительно.
Когда вслед за этими романами мы прочли «Один в поле не воин»[170 - «Один в поле не воин» – роман немецкого писателя Фридриха Шпильгагена (1829–1911).], переведенный Благосветловым в «Деле», – впечатление было огромное. Вообще этот немецкий писатель сразу овладел умами тогдашней молодежи. Его герои были уже «лица», а не «личности», а условия их борьбы взяты из несомненной действительности. И так же, как прежде по русским захолустьям бродили Чайльд – Гарольды[171 - Чайльд-Гарольд – герой одноименной поэмы Байрона.], Амалат – беки[172 - Аммалат-Бек – герой произведения Марлинского (А. А. Бестужева) «Аммалат-Бек (кавказская быль)».] и Печорины, – теперь стали десятками появляться шпильгагенские Лео и Рахметовы Чернышевского[173 - Рахметов – один из героев романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского.]. Были даже «Лео на рахметовской подкладке»…
К концу гимназического курса в моей душе начало складываться из всего этого брожения некоторое, правда, довольно туманное представление о том, чем мне быть за гранью гимназии и нашего города. Реалистическая литература внесла сюда свою долю: из реакции романтизму я отверг по отношению к себе всякие преувеличенно героические иллюзии. Образ Лео я признал себе не по плечу. Я им восхищался, но моим воображением завладел другой шлильгагенский герой из «Между молотом и наковальней»[174 - …другой шпильгагенский герой из «Между молотом и наковальней». – Герой этот – Георг Гартвиг, от лица которого ведется повествование.]. Он легче мыслился в России… Где-то у нас происходят важные события. В них принимает деятельное участие молодой человек лет двадцати пяти, небольшого роста, с умным выражением лица и твердым взглядом. Он отчасти напоминает меня, но только отчасти (своим лицом я был крайне недоволен и в воображении произвел в нем некоторые поправки). Вследствие неудачи первой любви он отказался от «личного счастья» (правда, не без возможности когда-нибудь неожиданно счастливого поворота судьбы). Он не герой, широкой известностью не пользуется, но когда он входит в общество людей, преданных важному и опасному делу, то на вопрос не знающих его знающие отвечают: «Это – NN… человек умный, на него можно положиться»… Порой его положение становится опасно, или он устает от трудной работы. Тогда он исчезает куда-то в глушь. У него, как у шпильгагенского героя, есть какая-то мастерская, которую он предоставил своим «друзьям из народа». Тут он становится за станок наряду с ними, а по вечерам они читают, и он говорит им о том, что затевается там, далеко в столицах. Они этому сочувствуют и в свою очередь делятся тем, что зреет в глубине народной мудрости. Лица у них умные, но… национальности у них нет, и, несмотря на усилия моего воображения, они отчасти похожи на немецких рабочих 1848 года…
Туманные образы Амалат – беков, Чайльд – Гарольдов, Печориных и Демонов были, в сущности, очень безвредны: непосредственно с таинственно – мрачных высот они поступали на службу. Конахевич стал железнодорожным чиновником, Кордецкий успешно служил по акцизу и из погубителя невинных существ превратился в отличного, несколько даже сентиментального семьянина.
Судьба русских Лео и Рахметовых часто бывала иная… Но я забегаю вперед… Об этом придется еще много говорить в дальнейших очерках «моего современника».
XXXIV
Последний год в гимназии
Этот год прошел для меня в особом настроении.
Каникулы были на исходе, когда «окончившие» уезжали – одни в Киев, другие – в Петербург. Среди них был и Сучков. В Житомире мы учились в одном классе. Потом он обогнал меня на год, и мысль, что и я мог бы уже быть свободным, выступала для меня с какой-то особенной, раздражающей ясностью.
Я проводил его за заставу. В штатском платье, с чемоданом в ногах, с новеньким саквояжем через плечо, он сидел в перекладной, которая уносила его в незнакомую даль. На шоссе за тюрьмой мы расстались, и я долго еще следил за клубком пыли, который катился пятнышком по дороге. Мне страстно хотелось самому на волю… Ехать вот так же все вперед и вперед, куда-то на простор, к новой жизни. А там что-то неясное, но великолепное. И странно: из всего этого великолепия прежде всего передо мной выступала маленькая комнатка где-то очень высоко… Из окна видны крыши и небо. На полу стоит мой чемодан, на стенке висит такой же, как у Сучкова, новенький саквояж. Это значит, что я приехал и вот – вот уйду куда-то. Куда? В новую жизнь!
Клубок пыли исчез. Я повернулся к городу. Он лежал в своей лощине, тихий, сонный и… ненавистный. Над ним носилась та же легкая пелена из пыли, дыма и тумана, местами сверкали клочки заросшего пруда, и старый инвалид дремал в обычной позе, когда я проходил через заставу. Вдобавок, около пруда, на узкой деревянной кладочке, передо мной вдруг выросла огромная фигура Степана Яковлевича, ставшего уже директором. Он посмотрел на меня с высоты своего роста и сказал сурово:
– Хотите обновить карцер?
Я посмотрел на него с удивлением. Что нужно этому человеку? Страха перед ним давно уже не было в моей душе. Я сознавал, что он вовсе не грозен и не зол, пожалуй даже по – своему добродушен. Но за что же он накинулся?
Толстый палец потянулся к моей груди. Две средних пуговицы мундира не были застегнуты.
«Только-то?» – Подумал я и, застегивая пуговицы, невольно повел плечами. Он внимательно и строго посмотрел мне в лицо.
– Откуда вы идете?
– Я… провожал Сучкова…
– Ну… так что же? – спросил он опять не совсем кстати, озадаченный, вероятно, выражением моего лица.
– Ничего, Степан Яковлевич, – ответил я деревянно.
Директор посмотрел на меня, как будто подыскивая предлог для вспышки, чтобы встряхнуть мою невосприимчивость к авторитету, но ничего не придумал и пошел своей дорогой.
А я с тоской посмотрел вокруг. Сучков несется уже далеко… Подъезжает к станции. Расписывается в книге: «студент Технологического института»!.. Дает на чай ямщику. Садится опять, и колокольчик заводит свою загадочную болтовню… А передо мною все тот же пруд, заросший зеленой ряской… Прогалины знойно и неподвижно отражают небо и солнечный свет… Ряска кое – где шевелится, – это под ней проплывают головастики и лягушки… Из камышей выплыл тяжко скучающий лебедь. Баба стучит вальком по мокрому белью… Степан Яковлевич сейчас грозил мне карцером… И все это еще на целый год! Тоска, тоска!..
Год этот тянулся для меня вяло и скучно, и я хорошо понимал брата, который, раз выскочив из этой колеи, не мог и не стремился опять попасть в нее. Передо мной конец близко. Я, конечно, должен кончить во что бы то ни стало…
Директор продолжал присматриваться ко мне подозрительным, но мало понимающим взглядом. Однажды он остановил меня при выходе из церкви.
– Отчего вы не молитесь? – спросил он. – Прежде вы молились. Теперь стоите, как столб.
Я поднял на него глаза, и в них, вероятно, опять было озадачившее его выражение. Что мне сказать в ответ? Начать молиться по приказу, под упирающимися в спину начальственными взглядами?
– Не знаю, – ответил я кратко.
На ученической квартире, которую после смерти отца содержала моя мать, я был «старшим». В этот год одну комнату занимал у нас юноша Подгурский, сын богатого помещика, готовившийся к поступлению в один из высших классов. Однажды директор, посетив квартиру, зашел в комнату Подгурского в его отсутствии и повел в воздухе носом.
– Он… курит? – спросил он у меня.
– Не знаю, – ответил я.
– Вы старший?