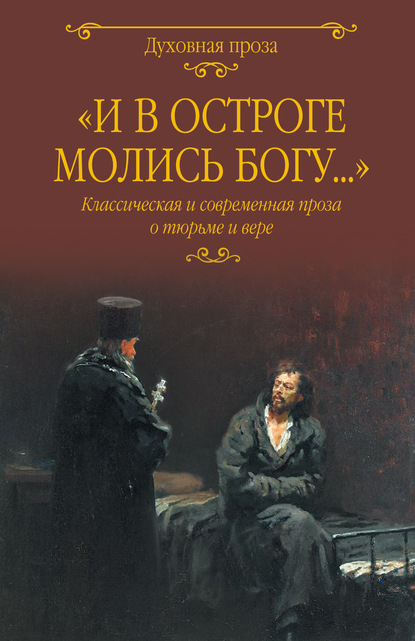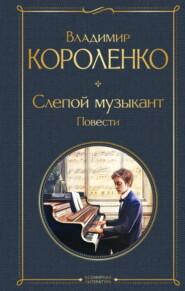По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«И в остроге молись Богу…» Классическая и современная проза о тюрьме и вере
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Порой у Фролова готовы были сорваться с языка какие-то полупризнания… Что-то вроде внезапной откровенности прорывалось в голосе, но он обрывал их на полумысли и опять только приводил какой-нибудь эпизод.
– Мальчик-то… что у вас на карточке?.. Стало, вам племянник приходится? – спросил он как-то.
– Да, – ответил Залесский.
– Славный парнишка… сытенький… А неизвестно, – прибавил он вдруг, – какая ему линия выйдет…
Залесский молчал и ждал.
– У всякаго человека своя линия… Вон мужик пашет. Ввел коня в борозду, – он идет, и погонять не надо… А небось в первый-то раз неохота лезть в оглоблю. Так-то… У мужика опять своя линия… У нашего брата, бродяги, своя. Вы, барин, про генерала Кукушкина слыхали?
– Нет, не слыхал.
– Бродяжий генерал… По лесу кричит: ку-ку, ку-ку… Крикнет весной, у бродяги сердце горит… Последний раз втроем мы из Акатуя бежали. Одного часовой застрелил, другого поймали, тоже, пожалуй, прикончили: у них, у архангелов тюремных, опять своя линия. А я все-таки к генералу Кукушкину явился в тайгу… Все одно, как к начальству… Здравья желаю, ваше превосходительство…
Фролов замолчал и потом сказал серьезно, как будто удивляясь своим словам:
– Веришь ты, барин. Один раз на поселение вышел. С поселенкой слюбился. Одну весну руками за нее хватался, на другую не выдержал, сбежал… Пришел в тайгу и думаю: ну, генерал Кукушкин! не слуга я тебе! Лучше жизни решусь… А все-таки… остался на своей линии…
В другой раз он опять заговорил о племяннике Залесского и стал расспрашивать, сколько ему лет, когда его отдадут в школу…
И потом вдруг рассказал эпизод из своей жизни.
– В первый раз отец мой из поселенья бежать надумал. В Расею пробраться. Мать-отец там у него остались, внучка у них… Жили хорошо. Пошли. Хомяк еще с нами – вон тот, что с мертвым телом в твоей телеге едет… Идем дорогой. Оголодали. А народ в том месте плохой. Не то что дальше по Сибири: завсегда для бродяги краюха хлеба, молока кринка на окне у амбара ночью стоят… Бери, мол, да ступай себе мимо. В Забайкалье этого нет. Надо, значит, самому промышлять. Ломать амбар, услышут. А тут оконце небольшое. Подсадил меня отец к оконцу: «Ну-ко, говорит, Яш! Пробуй: не пролезет ли голова. Голова пролезет – и весь пролезешь». А мне боязно: в амбаре темно, может еще и чалдон сторожит… И совестно – в первый-то раз… Не воровал еще никогда… Сунул голову: не лезет, мол… Слышу, отец говорит Хомяку: «Эх, брат. Ломать, видно, не миновать!» «Плохо это, – отвечает Хомяк… – Озлится чалдон… И то они по здешним местам варвары». А отец опять: «Так-то оно так… Да, вишь, мочи нет… И мальчонка отощает… Не дойдем»… Повернулось у меня сердце, и стало опять совестно: зачем солгал. «Тятька, говорю, а, тять!.. Голова-то у меня пролезла…» Взяли хлеба каравай да холста на онучи… Пошли дальше…
Фролов посмотрел на Залесского своим вдумчивым взглядом и прибавил:
– Понял ты?..
– Кажется, понял, – ответил Залесский.
– А понял, так и ладно…
Глава IV
В тот день, с которого начинается наш рассказ, Залесский во весь переход чувствовал себя в особенном настроении. Недолгий осенний день отходил… Партия продолжала тянуться по дороге… И завтра, и через неделю, – думал Залесский, – и через месяц то же солнце увидит тех же людей на той же дороге… Только вон тот, что лежит на задней телеге, уже кончил свой путь. И старик, который сидит с ним рядом, пожалуй тоже скоро его кончит… Да вон еще ребенок, который жалобно плачет в другой телеге… Он родился весной на одном этапе, умрет на другом осенью…
Партия вытянулась на гребень, и голова ее стала спускаться вниз. Фролов, который молча шел рядом с Залесским, взглянул вниз на долгий спуск и крикнул:
– Подтягивайся, братцы, подтягивайся… Ямщики, подхлестни лошадей… Близко!
Партия дрогнула; пешие пошли живее… Колеса зарокотали быстрее…
Но Фролов опять шел рядом с Залесским, молчаливо и задумчиво…
– О чем вы задумались? – спросил Залесский.
– Так… вопче… вспомнилось, – сказал бродяга…
И потом, пройдя еще несколько саженей, он тряхнул головой и посмотрел на Залесского вдумчивым и вопросительным взглядом. Залесский понял, что сейчас он опять расскажет ему один из эпизодов своей жизни… На этот раз под влиянием настроения, витавшего над партией во весь этот переход, он будет, может быть, более откровенным…
Фролов начал без всяких приготовлений.
– …В третий раз я тогда бродяжил. Отец уже помер, товарищ отстал— пошел я один. Все думал к сестре пробраться. Тоскливо было до страсти, скука! Иду, и все вспоминается, как мы тут с родителем с покойником шли; и зарубки на лесинах его рукой деланы. Вот раз к вечеру бреду тропкой, запоздал до ночлежного места шибко. Хотел в шалашике переночевать, который шалаш вместе мы с отцом построили. Только подхожу к самому этому месту, через ручей перейти, гляжу: за ручьем огонек горит, и сидит у огонька бродяжка. Исхудалый, глаза как у волка, кидает на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом, голодный человек и холодный: одежда, почитай, вся обвалилась. Вот хорошо. Обрадовался я этому случаю, думаю: товарища Бог послал. Покормил я его, чем богат, чайком обогрел – как следует, по-товарищески. У нас, барин, своя честь есть бродяжья. Иной, подлец, из-за халата товарища убьет… Ну, это уж нестоящие люди. Меня отец не тому учил… И в товарищах я ходил с такими людьми, на которых можно положиться. Ну, все-таки и этому товарищу рад… Посидели мы, потолковали… Спать! Лег я, веток под голову наломал… Полежал, полежал… Не спится. Отец вспоминается покойник: этак же вдвоем в шалаше лежали. Слышу: встает мой бродяжка, из шалаша вон идет. «Куда?» – говорю. «Да так, мол, не спится что-то. Пойду, – говорит, – к ручью, воды в котелок зачерпну да сучьев натаскаю. Завтра пораньше чай варить… Да ты, – говорит, – что же это, молодец, головой-то под самый навес уткнулся, – чай, ведь душно…» А меня отец покойник учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать – пуще всего голову береги; в живот ткнет – не убьет сразу… Вот я завет отцовский храню, хоть на этот раз ничего и в уме не было… «Ничего, – говорю, – в привычку мне так-то, и комар меньше ест». Хорошо.
Ушел бродяжка к ручью – не идет да и не идет. Ночь темная была, на небе тучи, да и неба сквозь дерев не видать. Огонек у шалаша этак потрескивает, да листья шелестят… Тихо.
Вот лежал я, лежал, об отце думал, про своих вспоминал, про сестру да про Расею… вздремнул. Только слышу, отец меня окликает: «Яшка!» Так это будто с ветром издалека принесло, проснулся, открыл глаза: костер дымит, да ветка над входом качается. Я и опять заснул.
И опять слышу: идет кто-то к шалашу, сучья хрустят, за огоньком будто кто маячит. И опять: «Яшка! Не спи!»
Перекрестился я сонной рукой, воздохнул об родителе… а не могу вовсе проснуться. Глаза так и сводит. Заснул опять, крепче прежнего.
Прошло сколько-то времени, слышу: идет отец к шалашу, стал в дверях, руки эдак упер, а сам наклонился ко мне в дыру-то.
«Слышь, – говорит, – Яшка! Не спи, а то заснешь навеки!..»
Да явственно таково сказал, что сна моего как не бывало. Проснулся: огонь погас, по листьям дождик шумит, и нет никого.
Присел я тихонько. Думаю: неспроста это дело. Где же это товарищ мой богоданный?..
Слышу: дышит кто-то сзади меня, ветками шебаршит… Поднялся я на ноги, вышел неслышно на волю. Гляжу: сидит мой товарищ на корточках, над головой моей шалаш разбирает… И корягу вырезал в тайге здоровую…
Фролов смолк и потом спросил:
– А вы и не спросите, что я тогда с тем человеком сделал?
– Не спрошу, – ответил Залесский… – Захотите – сами скажете… А не захотите – не надо.
Фролов посмотрел на него и пошел молча.
Глава V
Партия с тихим рокотом скатывалась по дороге. В вечереющем воздухе звон кандалов и шуршание колес звучали мягче и тише. Серые люди, телеги, казавшиеся какими-то бесформенными животными, проплывали мимо… Ребята спали на руках матерей, люди говорили друг с другом тихо и сдержанно. Неровный топот двух сотен ног покрывал все остальные звуки.
Этап с высоким частоколом стоял на холмике, и мелкий хвойный перелесок подбегал к нему с одной стороны. Невдалеке, в лощине, искрились и мигали ранние огни села… Все было по-старому. Только разве лес отступил от частокола, оставив пни и обнажив кочки, да частокол потемнел, да караулка еще более покосилась!
Ворота отперли, партия столпилась около них с шумом и говором, во дворе сидели торговки из села… В этапной кухне горел яркий огонь, и около крыльца этапного начальника зажгли фонарь. Полковник, проезжавший по ревизии, стоял, окруженный другим начальством, и смотрел на прибытие партии. Его военная тужурка была расстегнута, и из-под нее виднелась белая жилетка с форменными пуговицами… Вообще он держал себя нараспашку, курил трубку, отводя по временам длинный чубук в сторону, и порой обменивался с кем-нибудь добродушными шутками. От всей его фигуры веяло самодовольством.
– Эй, – спохватился вдруг полковник, – а где же тот, как его?.. Бесприютный?
– Фролов, – крикнул кто-то… – Барин требует…
Полковник обождал, но партия успела втянуться в ворота, которые были заперты за ней, а Фролов не являлся.
– Прикажете позвать, Семен Семеныч? – спросил один из конвойных офицеров.
– Нет, не надо, зачем? Я это так, по старому знакомству… человек усталый, зачем его тревожить… Все равно завтра повидаю… Притом у него забота. Ведь он староста?
– Мальчик-то… что у вас на карточке?.. Стало, вам племянник приходится? – спросил он как-то.
– Да, – ответил Залесский.
– Славный парнишка… сытенький… А неизвестно, – прибавил он вдруг, – какая ему линия выйдет…
Залесский молчал и ждал.
– У всякаго человека своя линия… Вон мужик пашет. Ввел коня в борозду, – он идет, и погонять не надо… А небось в первый-то раз неохота лезть в оглоблю. Так-то… У мужика опять своя линия… У нашего брата, бродяги, своя. Вы, барин, про генерала Кукушкина слыхали?
– Нет, не слыхал.
– Бродяжий генерал… По лесу кричит: ку-ку, ку-ку… Крикнет весной, у бродяги сердце горит… Последний раз втроем мы из Акатуя бежали. Одного часовой застрелил, другого поймали, тоже, пожалуй, прикончили: у них, у архангелов тюремных, опять своя линия. А я все-таки к генералу Кукушкину явился в тайгу… Все одно, как к начальству… Здравья желаю, ваше превосходительство…
Фролов замолчал и потом сказал серьезно, как будто удивляясь своим словам:
– Веришь ты, барин. Один раз на поселение вышел. С поселенкой слюбился. Одну весну руками за нее хватался, на другую не выдержал, сбежал… Пришел в тайгу и думаю: ну, генерал Кукушкин! не слуга я тебе! Лучше жизни решусь… А все-таки… остался на своей линии…
В другой раз он опять заговорил о племяннике Залесского и стал расспрашивать, сколько ему лет, когда его отдадут в школу…
И потом вдруг рассказал эпизод из своей жизни.
– В первый раз отец мой из поселенья бежать надумал. В Расею пробраться. Мать-отец там у него остались, внучка у них… Жили хорошо. Пошли. Хомяк еще с нами – вон тот, что с мертвым телом в твоей телеге едет… Идем дорогой. Оголодали. А народ в том месте плохой. Не то что дальше по Сибири: завсегда для бродяги краюха хлеба, молока кринка на окне у амбара ночью стоят… Бери, мол, да ступай себе мимо. В Забайкалье этого нет. Надо, значит, самому промышлять. Ломать амбар, услышут. А тут оконце небольшое. Подсадил меня отец к оконцу: «Ну-ко, говорит, Яш! Пробуй: не пролезет ли голова. Голова пролезет – и весь пролезешь». А мне боязно: в амбаре темно, может еще и чалдон сторожит… И совестно – в первый-то раз… Не воровал еще никогда… Сунул голову: не лезет, мол… Слышу, отец говорит Хомяку: «Эх, брат. Ломать, видно, не миновать!» «Плохо это, – отвечает Хомяк… – Озлится чалдон… И то они по здешним местам варвары». А отец опять: «Так-то оно так… Да, вишь, мочи нет… И мальчонка отощает… Не дойдем»… Повернулось у меня сердце, и стало опять совестно: зачем солгал. «Тятька, говорю, а, тять!.. Голова-то у меня пролезла…» Взяли хлеба каравай да холста на онучи… Пошли дальше…
Фролов посмотрел на Залесского своим вдумчивым взглядом и прибавил:
– Понял ты?..
– Кажется, понял, – ответил Залесский.
– А понял, так и ладно…
Глава IV
В тот день, с которого начинается наш рассказ, Залесский во весь переход чувствовал себя в особенном настроении. Недолгий осенний день отходил… Партия продолжала тянуться по дороге… И завтра, и через неделю, – думал Залесский, – и через месяц то же солнце увидит тех же людей на той же дороге… Только вон тот, что лежит на задней телеге, уже кончил свой путь. И старик, который сидит с ним рядом, пожалуй тоже скоро его кончит… Да вон еще ребенок, который жалобно плачет в другой телеге… Он родился весной на одном этапе, умрет на другом осенью…
Партия вытянулась на гребень, и голова ее стала спускаться вниз. Фролов, который молча шел рядом с Залесским, взглянул вниз на долгий спуск и крикнул:
– Подтягивайся, братцы, подтягивайся… Ямщики, подхлестни лошадей… Близко!
Партия дрогнула; пешие пошли живее… Колеса зарокотали быстрее…
Но Фролов опять шел рядом с Залесским, молчаливо и задумчиво…
– О чем вы задумались? – спросил Залесский.
– Так… вопче… вспомнилось, – сказал бродяга…
И потом, пройдя еще несколько саженей, он тряхнул головой и посмотрел на Залесского вдумчивым и вопросительным взглядом. Залесский понял, что сейчас он опять расскажет ему один из эпизодов своей жизни… На этот раз под влиянием настроения, витавшего над партией во весь этот переход, он будет, может быть, более откровенным…
Фролов начал без всяких приготовлений.
– …В третий раз я тогда бродяжил. Отец уже помер, товарищ отстал— пошел я один. Все думал к сестре пробраться. Тоскливо было до страсти, скука! Иду, и все вспоминается, как мы тут с родителем с покойником шли; и зарубки на лесинах его рукой деланы. Вот раз к вечеру бреду тропкой, запоздал до ночлежного места шибко. Хотел в шалашике переночевать, который шалаш вместе мы с отцом построили. Только подхожу к самому этому месту, через ручей перейти, гляжу: за ручьем огонек горит, и сидит у огонька бродяжка. Исхудалый, глаза как у волка, кидает на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом, голодный человек и холодный: одежда, почитай, вся обвалилась. Вот хорошо. Обрадовался я этому случаю, думаю: товарища Бог послал. Покормил я его, чем богат, чайком обогрел – как следует, по-товарищески. У нас, барин, своя честь есть бродяжья. Иной, подлец, из-за халата товарища убьет… Ну, это уж нестоящие люди. Меня отец не тому учил… И в товарищах я ходил с такими людьми, на которых можно положиться. Ну, все-таки и этому товарищу рад… Посидели мы, потолковали… Спать! Лег я, веток под голову наломал… Полежал, полежал… Не спится. Отец вспоминается покойник: этак же вдвоем в шалаше лежали. Слышу: встает мой бродяжка, из шалаша вон идет. «Куда?» – говорю. «Да так, мол, не спится что-то. Пойду, – говорит, – к ручью, воды в котелок зачерпну да сучьев натаскаю. Завтра пораньше чай варить… Да ты, – говорит, – что же это, молодец, головой-то под самый навес уткнулся, – чай, ведь душно…» А меня отец покойник учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать – пуще всего голову береги; в живот ткнет – не убьет сразу… Вот я завет отцовский храню, хоть на этот раз ничего и в уме не было… «Ничего, – говорю, – в привычку мне так-то, и комар меньше ест». Хорошо.
Ушел бродяжка к ручью – не идет да и не идет. Ночь темная была, на небе тучи, да и неба сквозь дерев не видать. Огонек у шалаша этак потрескивает, да листья шелестят… Тихо.
Вот лежал я, лежал, об отце думал, про своих вспоминал, про сестру да про Расею… вздремнул. Только слышу, отец меня окликает: «Яшка!» Так это будто с ветром издалека принесло, проснулся, открыл глаза: костер дымит, да ветка над входом качается. Я и опять заснул.
И опять слышу: идет кто-то к шалашу, сучья хрустят, за огоньком будто кто маячит. И опять: «Яшка! Не спи!»
Перекрестился я сонной рукой, воздохнул об родителе… а не могу вовсе проснуться. Глаза так и сводит. Заснул опять, крепче прежнего.
Прошло сколько-то времени, слышу: идет отец к шалашу, стал в дверях, руки эдак упер, а сам наклонился ко мне в дыру-то.
«Слышь, – говорит, – Яшка! Не спи, а то заснешь навеки!..»
Да явственно таково сказал, что сна моего как не бывало. Проснулся: огонь погас, по листьям дождик шумит, и нет никого.
Присел я тихонько. Думаю: неспроста это дело. Где же это товарищ мой богоданный?..
Слышу: дышит кто-то сзади меня, ветками шебаршит… Поднялся я на ноги, вышел неслышно на волю. Гляжу: сидит мой товарищ на корточках, над головой моей шалаш разбирает… И корягу вырезал в тайге здоровую…
Фролов смолк и потом спросил:
– А вы и не спросите, что я тогда с тем человеком сделал?
– Не спрошу, – ответил Залесский… – Захотите – сами скажете… А не захотите – не надо.
Фролов посмотрел на него и пошел молча.
Глава V
Партия с тихим рокотом скатывалась по дороге. В вечереющем воздухе звон кандалов и шуршание колес звучали мягче и тише. Серые люди, телеги, казавшиеся какими-то бесформенными животными, проплывали мимо… Ребята спали на руках матерей, люди говорили друг с другом тихо и сдержанно. Неровный топот двух сотен ног покрывал все остальные звуки.
Этап с высоким частоколом стоял на холмике, и мелкий хвойный перелесок подбегал к нему с одной стороны. Невдалеке, в лощине, искрились и мигали ранние огни села… Все было по-старому. Только разве лес отступил от частокола, оставив пни и обнажив кочки, да частокол потемнел, да караулка еще более покосилась!
Ворота отперли, партия столпилась около них с шумом и говором, во дворе сидели торговки из села… В этапной кухне горел яркий огонь, и около крыльца этапного начальника зажгли фонарь. Полковник, проезжавший по ревизии, стоял, окруженный другим начальством, и смотрел на прибытие партии. Его военная тужурка была расстегнута, и из-под нее виднелась белая жилетка с форменными пуговицами… Вообще он держал себя нараспашку, курил трубку, отводя по временам длинный чубук в сторону, и порой обменивался с кем-нибудь добродушными шутками. От всей его фигуры веяло самодовольством.
– Эй, – спохватился вдруг полковник, – а где же тот, как его?.. Бесприютный?
– Фролов, – крикнул кто-то… – Барин требует…
Полковник обождал, но партия успела втянуться в ворота, которые были заперты за ней, а Фролов не являлся.
– Прикажете позвать, Семен Семеныч? – спросил один из конвойных офицеров.
– Нет, не надо, зачем? Я это так, по старому знакомству… человек усталый, зачем его тревожить… Все равно завтра повидаю… Притом у него забота. Ведь он староста?