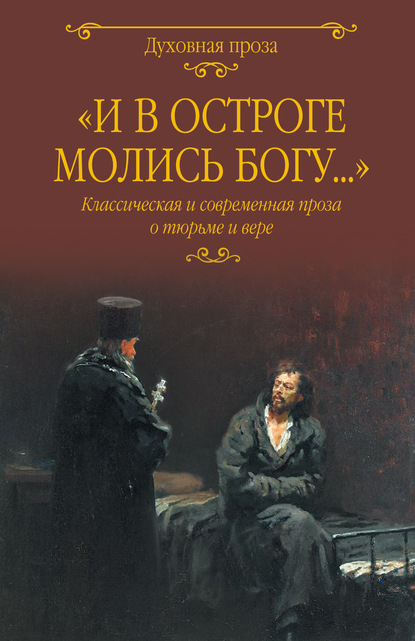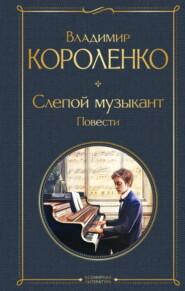По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«И в остроге молись Богу…» Классическая и современная проза о тюрьме и вере
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Опытные люди знают эти мгновенные вспышки в арестантской среде. Масса людей, которые обычно так или иначе руководятся своими разрозненными интересами, – тут вдруг проникаются общею всем страстью. Каждый чувствует это странное единодушие, наступающее без предварительного сговора, без рассуждений, и сознание общности настроения страшно усиливает его в каждом отдельном человеке. Тут трус становится храбрым, а храбрый человек – безумцем. Из двух сторон, стоящих лицом к лицу, одна чувствует себя сильнее, потому что заранее отказывается от самого дорогого, за что можно бояться…
Степанов, состарившийся на этапах, был знаком с этими стихийными вспышками. Поэтому он принял все меры, чтобы избегнуть столкновения. Он не пытался вмешаться, не отнимал водку, которую арестантам удалось добыть в большом количестве, и даже удалил от дверей камеры часового. Он надеялся, что таким образом пламя внезапно вспыхнувших страстей перегорит и погаснет, не выходя за пределы камеры.
Залесский старался заснуть, но это ему не удавалось: дремота была тревожна. По временам, открывая глаза, он видел будто в тумане силуэты двигавшихся людей; слышал сквозь дремоту говор и песни. Один голос особенно выделялся и тревожил его, напоминая о чем-то неприятном и тяжелом. Поэтому он не хотел просыпаться, а проснувшись, старался тотчас же опять заснуть.
В одну из таких минут он увидел Фролова. Староста сидел на краю нары, обнявшись с простоволосой арестанткой. Женщина покачивалась и, смеясь, с пьяною наглостью заводила циничную песню. В камере было душно, накурено и пыльно от движения; фигуры рисовались тускло, будто в волнах тумана, пронизанного скудным светом ночников. На одной из нар в середине выделялась тощая фигура Жилейки. Он потрясал в воздухе кулаками и выкрикивал охрипшим голосом, видимо кому-то угрожая: «Знай наших!.. Поберегайся!» Во всех концах камеры стоял оживленный говор. Даже те, кто не принимал в пирушке непосредственного участия, – сидели на постелях кучками и громко беседовали друг с другом о самых разнообразных делах и случаях, не имевших, по-видимому, ни малейшего отношения к тому, что здесь происходило. Камера гудела, как улей, разбуженный каким-то толчком в глухую полночь.
Потом протяжная хоровая песня покрыла все остальные звуки, и под ее грустный напев Залесский опять забылся.
Проснулся он от наступившей вдруг тишины и, проснувшись, сразу уселся на своей постели. Теперь в камере слышался один только голос. Кто-то плакал, но это не был плач пьяного человека. Это был протяжный грудной рев, как-то безнадежно и ужасающе ровный, которому, казалось, конца не будет. Этот рев как будто поглотил в себе все оживление разбушевавшейся камеры. Остальные арестанты прислушивались к нему в тяжелом испуганном молчании. Только пьяная женщина тянулась к рыдавшему, стараясь приподнять с нары его голову, и по временам причитала:
– Яши-инька, Яш! Горемышный ты мо-о-ой…
– Мамка, не трог меня… – глухо и прерывисто отвечал бродяга.
– Не трог, не трог, – испуганно шептали арестанты.
Вдруг Фролов поднял голову и обвел камеру тяжелым взглядом. Казалось, водка не опьянила его, и трудно было бы поверить, что этот человек только что плакал. Глаза его были сухи, черты стали как будто острее и жестче. Он порывисто приподнялся, держась руками за край нары, и искал кого-то глазами.
– А, барин! – крикнул он Залесскому, который смотрел на него, сидя на своем месте, отделенном от бродяги тянувшимися посреди камеры двойными нарами.
С языка бродяги сорвалось короткое циничное ругательство.
– Ва-а-просы… Я, брат, и сам спрашивать-то мастер… Нет, ты мне скажи – должен я отвечать или нет… ежели моя линия такая. А то – ва-а-просы. На цигарки я твою книгу искурил…
Залесский молчал.
– Сестра-а! – сказал опять Фролов тоном глубокого презрения… – У меня у самого сестра.
И затем целый град самых грубых ругательств полился из уст Фролова. Казалось, он чувствовал особое наслаждение, втаптывая в грязь образ мифической сестры, мечту своей жизни.
Залесский сидел молча и думал, чем кончится эта сцена. Арестанты смотрели то на него, то на Фролова, не понимая, в чем дело. С трудом сойдя со своего места, без халата и шапки, в одном белье и с палкой в руках, старый Хомяк пробирался между тем вдоль нары, направляясь к Бесприютному. Подойдя на два шага, он протянул руку, пошарил перед собой и, нащупав плечо Фролова, сказал с неожиданной силой:
– Молчи… Яков… Я тебе говорю: нишкни!
Фролов отстранился и, дико глядя на Хомяка, продолжал ругаться. Старик поднял палку и ударил Фролова. Среди арестантов пронесся внезапный вздох.
– Вяжи его, ребята… Вяжи щенка… Вали в мою голову…
– Врешь, – закричал Фролов. – Сам молчи, старая собака… Связал один такой-то!..
– Братцы, родимые, – ножик! – взвизгнула вдруг арестантка.
В камере поднялась суматоха. Около нар топталась и глухо наваливалась серая, безличная толпа…
– Старика смяли, – крикнул кто-то сдавленным голосом. – Что вы стоите, как быки? Уведи старика, ребята… Не-ет, врешь… Нет, отдашь…
Серая куча глухо сопела и ворчала, ворочаясь сплошной массой на полу…
– Берегись! Ножик, – крикнул кто-то, и, пролетев над головами, нож зазвенел на полу. Несколько тел опять глухо свалились на пол, и Фролов поднялся на мгновение над толпой, дикий и страшный, но вскоре опять свалился со стоном.
Когда, привлеченные шумом, в камеру вошли конвойные солдаты с ружьями, – все уже было кончено. Степанов вошел бледный и ждал столкновения, – но столкновения не вышло. Вся страсть этой толпы ушла на борьбу с одним человеком, который лежал на наре весь опутанный принесенной со двора веревкой. Фролов лежал неподвижно и только с какой-то странной размеренностью поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. От этого взгляда становилось жутко.
Глава VIII
– Барин, а барин!.. Слышь, барин!..
Залесский проснулся. Утомленная борьбой камера была погружена в глубокий сон. Даже один из караульных, приставленных к связанному Фролову, крепко спал, прислонясь спиной к деревянной колонке. Другой – Жилейка – растерянно топтался на месте в большом затруднении.
Фролов сидел на наре все еще связанный и глядел ли Залесского. Хомяк стоял около него, пытаясь развязать узлы своими дрожащими и бессильными руками.
– Помоги развязать, барин, – сказал Фролов. – Не бойся, ничего не будет. Видишь – старик меня знает.
Залесский поднялся и стал помогать Хомяку. У него работа тоже не особенно спорилась, но Жилейка, видимо обрадованный тем, что вмешательство барина окончательно снимает с него ответственность, – принялся за дело сам, и через минуту Фролов стал на ноги.
– Ну, ложись спать, ребята, – сказал он своим обычным голосом Жилейке и другому караульному, молодому арестантику, который успел тоже проснуться и удивленно протирал теперь заспанные голубые глаза.
– Слушаем, Яков Иванович, – сказал подобострастно Жилейка; казалось, все происшедшее внушило Жилейке еще более почтения к Фролову.
– Да смотри, ребята, никого не будить, – добавил последний. Теперь это опять был авторитетный староста, отдававший приказания, и оба караульных, не говоря больше ни слова, полезли на свои места и тихо улеглись, покрывшись халатами.
Фролов между тем взял свою шапку, надел халат, помог одеться Хомяку, и оба они вышли на двор, огороженный палями. Залесский, спавший у открытого окна, приложился лицом к железной решетке.
Две фигуры виднелись неясно на ступеньках крыльца. Они говорили о чем-то, но слов не было слышно. Только по временам грудной голос Фролова прорывался в темноте глубоко и полно. Хомяк говорил что-то глухо и неясно.
Ночь уходила своей тихой чередой. Фролов проводил Хомяка на его место и помог ему улечься. Затем сам он опять вернулся на крыльцо, и Залесскому все виднелись в окно неясные очертания неподвижной фигуры.
Острые концы палей все яснее проступали на светлеющем небе. Дыхание утра постепенно развеивало сумеречную мглу прохладной ночи… Небо синело, становилось прозрачнее, и взгляд Залесского, глядевшего из-за решетки, уходил все дальше ввысь…
Потом розовые лучи заиграли на зубцах и стали спускаться вниз на землю, золотя щели… Белое облако заглянуло сверху во двор и стало подыматься все выше. Потом другое, третье, целая стая… И за ними еще глубже проступала синяя высь…
Встрепенувшись от холодной росы, жаворонок, спавший всю ночь за кочкой вне ограды, поднялся от земли, точно камешек, брошенный сильной рукой, – и посыпал сверху яркой веселою трелью…
Из семейной камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину.
Бледная, изможденная, вышла на крыльцо мать ребенка. Некрасивое испитое лицо носило следы крайнего утомления; глаза были окружены синевою; она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко. Стоя на крыльце, она слегка покачивалась на нетвердых ногах. Казалось, она все еще спала и двигалась только под внушением звонкого детского крика.
Бесприютный поднялся.
– Матрена! – окликнул он женщину. – Тебе молока, что ли?
Женщина протерла глаза.
– А! Ты здеся, Яков. Никак уже встал. Да. Яш, голубчик, – молочка бы ему: слышь, как заливается.
Фролов направился к небольшому домику, где помещалась караулка и кухня. Через минуту он вышел опять во двор с охапкой щепок и кастрюлькой. Синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившеюся из-под платка косой, стояла тут же.
– Ишь – заливается, орет, – произнес Бесприютный. – Ты бы хоть грудь дала.
Степанов, состарившийся на этапах, был знаком с этими стихийными вспышками. Поэтому он принял все меры, чтобы избегнуть столкновения. Он не пытался вмешаться, не отнимал водку, которую арестантам удалось добыть в большом количестве, и даже удалил от дверей камеры часового. Он надеялся, что таким образом пламя внезапно вспыхнувших страстей перегорит и погаснет, не выходя за пределы камеры.
Залесский старался заснуть, но это ему не удавалось: дремота была тревожна. По временам, открывая глаза, он видел будто в тумане силуэты двигавшихся людей; слышал сквозь дремоту говор и песни. Один голос особенно выделялся и тревожил его, напоминая о чем-то неприятном и тяжелом. Поэтому он не хотел просыпаться, а проснувшись, старался тотчас же опять заснуть.
В одну из таких минут он увидел Фролова. Староста сидел на краю нары, обнявшись с простоволосой арестанткой. Женщина покачивалась и, смеясь, с пьяною наглостью заводила циничную песню. В камере было душно, накурено и пыльно от движения; фигуры рисовались тускло, будто в волнах тумана, пронизанного скудным светом ночников. На одной из нар в середине выделялась тощая фигура Жилейки. Он потрясал в воздухе кулаками и выкрикивал охрипшим голосом, видимо кому-то угрожая: «Знай наших!.. Поберегайся!» Во всех концах камеры стоял оживленный говор. Даже те, кто не принимал в пирушке непосредственного участия, – сидели на постелях кучками и громко беседовали друг с другом о самых разнообразных делах и случаях, не имевших, по-видимому, ни малейшего отношения к тому, что здесь происходило. Камера гудела, как улей, разбуженный каким-то толчком в глухую полночь.
Потом протяжная хоровая песня покрыла все остальные звуки, и под ее грустный напев Залесский опять забылся.
Проснулся он от наступившей вдруг тишины и, проснувшись, сразу уселся на своей постели. Теперь в камере слышался один только голос. Кто-то плакал, но это не был плач пьяного человека. Это был протяжный грудной рев, как-то безнадежно и ужасающе ровный, которому, казалось, конца не будет. Этот рев как будто поглотил в себе все оживление разбушевавшейся камеры. Остальные арестанты прислушивались к нему в тяжелом испуганном молчании. Только пьяная женщина тянулась к рыдавшему, стараясь приподнять с нары его голову, и по временам причитала:
– Яши-инька, Яш! Горемышный ты мо-о-ой…
– Мамка, не трог меня… – глухо и прерывисто отвечал бродяга.
– Не трог, не трог, – испуганно шептали арестанты.
Вдруг Фролов поднял голову и обвел камеру тяжелым взглядом. Казалось, водка не опьянила его, и трудно было бы поверить, что этот человек только что плакал. Глаза его были сухи, черты стали как будто острее и жестче. Он порывисто приподнялся, держась руками за край нары, и искал кого-то глазами.
– А, барин! – крикнул он Залесскому, который смотрел на него, сидя на своем месте, отделенном от бродяги тянувшимися посреди камеры двойными нарами.
С языка бродяги сорвалось короткое циничное ругательство.
– Ва-а-просы… Я, брат, и сам спрашивать-то мастер… Нет, ты мне скажи – должен я отвечать или нет… ежели моя линия такая. А то – ва-а-просы. На цигарки я твою книгу искурил…
Залесский молчал.
– Сестра-а! – сказал опять Фролов тоном глубокого презрения… – У меня у самого сестра.
И затем целый град самых грубых ругательств полился из уст Фролова. Казалось, он чувствовал особое наслаждение, втаптывая в грязь образ мифической сестры, мечту своей жизни.
Залесский сидел молча и думал, чем кончится эта сцена. Арестанты смотрели то на него, то на Фролова, не понимая, в чем дело. С трудом сойдя со своего места, без халата и шапки, в одном белье и с палкой в руках, старый Хомяк пробирался между тем вдоль нары, направляясь к Бесприютному. Подойдя на два шага, он протянул руку, пошарил перед собой и, нащупав плечо Фролова, сказал с неожиданной силой:
– Молчи… Яков… Я тебе говорю: нишкни!
Фролов отстранился и, дико глядя на Хомяка, продолжал ругаться. Старик поднял палку и ударил Фролова. Среди арестантов пронесся внезапный вздох.
– Вяжи его, ребята… Вяжи щенка… Вали в мою голову…
– Врешь, – закричал Фролов. – Сам молчи, старая собака… Связал один такой-то!..
– Братцы, родимые, – ножик! – взвизгнула вдруг арестантка.
В камере поднялась суматоха. Около нар топталась и глухо наваливалась серая, безличная толпа…
– Старика смяли, – крикнул кто-то сдавленным голосом. – Что вы стоите, как быки? Уведи старика, ребята… Не-ет, врешь… Нет, отдашь…
Серая куча глухо сопела и ворчала, ворочаясь сплошной массой на полу…
– Берегись! Ножик, – крикнул кто-то, и, пролетев над головами, нож зазвенел на полу. Несколько тел опять глухо свалились на пол, и Фролов поднялся на мгновение над толпой, дикий и страшный, но вскоре опять свалился со стоном.
Когда, привлеченные шумом, в камеру вошли конвойные солдаты с ружьями, – все уже было кончено. Степанов вошел бледный и ждал столкновения, – но столкновения не вышло. Вся страсть этой толпы ушла на борьбу с одним человеком, который лежал на наре весь опутанный принесенной со двора веревкой. Фролов лежал неподвижно и только с какой-то странной размеренностью поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. От этого взгляда становилось жутко.
Глава VIII
– Барин, а барин!.. Слышь, барин!..
Залесский проснулся. Утомленная борьбой камера была погружена в глубокий сон. Даже один из караульных, приставленных к связанному Фролову, крепко спал, прислонясь спиной к деревянной колонке. Другой – Жилейка – растерянно топтался на месте в большом затруднении.
Фролов сидел на наре все еще связанный и глядел ли Залесского. Хомяк стоял около него, пытаясь развязать узлы своими дрожащими и бессильными руками.
– Помоги развязать, барин, – сказал Фролов. – Не бойся, ничего не будет. Видишь – старик меня знает.
Залесский поднялся и стал помогать Хомяку. У него работа тоже не особенно спорилась, но Жилейка, видимо обрадованный тем, что вмешательство барина окончательно снимает с него ответственность, – принялся за дело сам, и через минуту Фролов стал на ноги.
– Ну, ложись спать, ребята, – сказал он своим обычным голосом Жилейке и другому караульному, молодому арестантику, который успел тоже проснуться и удивленно протирал теперь заспанные голубые глаза.
– Слушаем, Яков Иванович, – сказал подобострастно Жилейка; казалось, все происшедшее внушило Жилейке еще более почтения к Фролову.
– Да смотри, ребята, никого не будить, – добавил последний. Теперь это опять был авторитетный староста, отдававший приказания, и оба караульных, не говоря больше ни слова, полезли на свои места и тихо улеглись, покрывшись халатами.
Фролов между тем взял свою шапку, надел халат, помог одеться Хомяку, и оба они вышли на двор, огороженный палями. Залесский, спавший у открытого окна, приложился лицом к железной решетке.
Две фигуры виднелись неясно на ступеньках крыльца. Они говорили о чем-то, но слов не было слышно. Только по временам грудной голос Фролова прорывался в темноте глубоко и полно. Хомяк говорил что-то глухо и неясно.
Ночь уходила своей тихой чередой. Фролов проводил Хомяка на его место и помог ему улечься. Затем сам он опять вернулся на крыльцо, и Залесскому все виднелись в окно неясные очертания неподвижной фигуры.
Острые концы палей все яснее проступали на светлеющем небе. Дыхание утра постепенно развеивало сумеречную мглу прохладной ночи… Небо синело, становилось прозрачнее, и взгляд Залесского, глядевшего из-за решетки, уходил все дальше ввысь…
Потом розовые лучи заиграли на зубцах и стали спускаться вниз на землю, золотя щели… Белое облако заглянуло сверху во двор и стало подыматься все выше. Потом другое, третье, целая стая… И за ними еще глубже проступала синяя высь…
Встрепенувшись от холодной росы, жаворонок, спавший всю ночь за кочкой вне ограды, поднялся от земли, точно камешек, брошенный сильной рукой, – и посыпал сверху яркой веселою трелью…
Из семейной камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину.
Бледная, изможденная, вышла на крыльцо мать ребенка. Некрасивое испитое лицо носило следы крайнего утомления; глаза были окружены синевою; она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко. Стоя на крыльце, она слегка покачивалась на нетвердых ногах. Казалось, она все еще спала и двигалась только под внушением звонкого детского крика.
Бесприютный поднялся.
– Матрена! – окликнул он женщину. – Тебе молока, что ли?
Женщина протерла глаза.
– А! Ты здеся, Яков. Никак уже встал. Да. Яш, голубчик, – молочка бы ему: слышь, как заливается.
Фролов направился к небольшому домику, где помещалась караулка и кухня. Через минуту он вышел опять во двор с охапкой щепок и кастрюлькой. Синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившеюся из-под платка косой, стояла тут же.
– Ишь – заливается, орет, – произнес Бесприютный. – Ты бы хоть грудь дала.