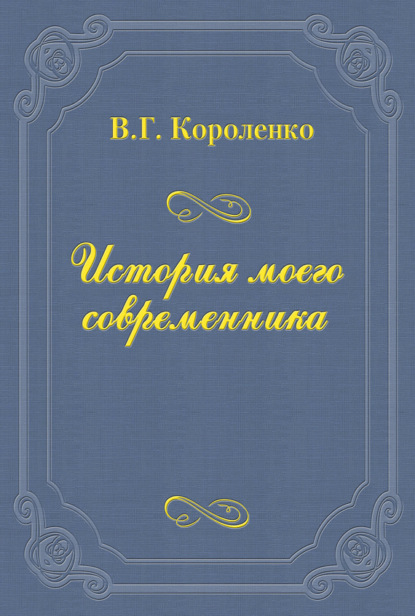По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моего современника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И потому мораль всего эпизода оставалась в прежней силе:
– Таки щось буде…
Потом стали толковать о каких-то «золотых грамотах», которые появлялись нивесть откуда на дорогах, в полях, на заборах, будто «от самого царя», и которым верили мужики, а паны не верили, мужики осмеливались, а паны боялись… Затем грянула поразительная история о «рогатом попе»…
История эта состояла в следующем: мужик пахал поле и выпахал железный казанок (котел) с червонцами. Он тихонько принес деньги домой и зарыл в саду, не говоря никому ни слова. Но потом не утерпел и доверил тайну своей бабе, взяв с нее клятву, что она никому не расскажет. Баба, конечно, забожилась всеми внутренностями, но вынести тяжесть неразделенной тайны была не в силах. Поэтому она отправилась к попу и, когда тот разрешил ее от клятвы, выболтала все на духу.
Поп оказался жадный и хитрый. Он убил и ободрал молодого бычка, надел на себя его шкуру с рогами, причем попадья кое – где зашила его нитками, пошел в полночь к хате мужика и постучал рогом в оконце. Мужик выглянул и обомлел. На другую ночь случилось то же, только на этот раз чорт высказал категорическое требование: «Вiдай мo? грошi»…
Мужик очень испугался и перед третьей ночью выкопал котелок и принес в хату. Когда чорт опять явился со своим требованием, мужик, по его приказу, открыл оконце и повесил котелок за железное ухо на рога своего страшного гостя…
Поп радостно прибежал к своей попадье и, наклонив рога, сказал: «Снимай грошi». Но когда попадья захотела снять котелок, то оказалось, что он точно прирос к рогам и не поддавался. «Ну, так разрежь шов и сними с кожей». Но и тут, как только попадья стала ножницами резать шов, – пол закричал не своим голосом, что она режет ему жилы. Оказалось, что червонцы прикипели к котлу, котел прирос к рогам, а бычья кожа – к попу…
Разумеется, как все необычайное, дело «дошло до царя», он посоветовался с стариками, и решили, что попа надо водить по всей земле, по городам и селам, и ставить на площадях… И чтобы все люди подходили и пробовали сиять, – потому что клад, должно быть, разбойничий или заклятый. Разбойники, верно, убили человека и зарыли деньги в землю, или кто-нибудь «знающий» закопал с заговором. И если, может, найдутся наследники того, чьи это деньги по правде, то котелок такому человеку отдастся и снимется с рогов, а с попа сойдет бычья шкура.
Отец сам рассказал нам, смеясь, эту историю и прибавил, что верят этому только дураки, так как это просто старая сказка; но простой, темный народ верил, и кое – где уже полиция разгоняла толпы, собиравшиеся по слухам, что к ним ведут «рогатого попа». На кухне у нас следили за поповским маршрутом: передавали совершенно точно, что поп побывал уже в Петербурге, в Москве, в Киеве, даже в Бердичеве и что теперь его ведут к нам…
Мы с младшим братом колебались между верой и сомнением, однако у нас теперь явилось новое занятие. Мы взбирались на высокие столбы забора на углу переулка и глядели вперед, в перспективу шоссе. Так мы просиживали целые часы неподвижно, иногда запасшись ломтями хлеба, и глядели в пыльную даль, следя за каждым появлявшимся пятнышком. Какая-то неотвязная инерция ожидание держала нас в этом неудобном положении на солнопеке – до головной, боли. Иной раз и хотелось уйти, но из-за горизонта в узком просвете шоссе, у кладбища, то и дело появлялись какие-то пятнышки, скатывались, росли, оказывались самыми прозаическими предметами, но на смену выкатывались другие, и опять казалось: а вдруг это и есть то, чего все ждут.
Раз кто-то крикнул во дворе: «Ведут!..» Поднялась кутерьма, прислуга выбегала из кухни, бежали горничные, конюха, бежали соседи из переулка, а на перекрестке гремели барабаны и слышался гул. Мы с братом тоже побежали… Но оказалось, что это везли для казни на высокой телеге арестанта…
Эта глупая сказка смешалась с падением «фигуры», с марой и вообще попала в настроение ожидания: «Щось буде!» Что именно будет, – неизвестно… Золотые грамоты, бунты мужиков, убийства, рогатый поп… вообще что-то необычайное, тревожное, небывалое – бесформенное… Одни верили в одно, другие – в другое, но все чувствовали, что идет на застоявшуюся жизнь что-то новое, и всякая мелочь встречалась тревожно, боязливо, чутко… От детского впечатления неподвижности всего существующего мира не осталось к этому времени и следа. Наоборот, я чувствовал, что не только мой маленький мирок, но и вся даль за пределами двора, города, даже где-то в «Москве и Петербурге» – и ждет чего-то, и тревожится этим ожиданием…
Газета тогда в глухой провинции была редкость, гласность заменялась слухами, толками, догадками, вообще – «превратными толкованиями». Где-то в верхах готовилась реформа, грядущее кидало свою тень, проникавшую глубоко в толщу общества и народа; в этой тени вставали и двигались призраки, фоном жизни становилась неуверенность. Крупные черты будущего были неведомы, мелочи вырастали в крупные события.
Тогда же через наш город повели телеграфную линию. Сначала привезли ровные свежие столбы и уложили штабелями на известных расстояниях по улицам. Потом нарыли ямы, и одна из них пришлась как раз на углу нашего переулка и торговой Виленской улицы… Потом столбы уставили в ямы и затем на тележках привезли большие мотки проволоки. Чиновник в свеженьком телеграфном мундире распоряжался работами, а рабочие влезали по лесенкам на столбы и, держась ногами и одной рукой на вбитых в столбы крючьях, натягивали проволоки. Натянув их в одном месте, они перекатывали тележку и сами переходили дальше к следующему промежутку, и к вечеру в воздухе параллельными линиями протянулись уже три или четыре проволоки, и столбы уносили их вдаль по длинной перспективе шоссе. Работники очень торопились, не останавливая работы и ночью. На следующее утро они были уже далеко за заставой, а через несколько дней говорили, что проволока доведена до Бродов и соединена с заграничной… В городе же остался труп: с столба сорвался рабочий, попал подбородком на крюк, и ему разрезало голову…
Я не помню, чтобы когда-нибудь впоследствии мне доводилось слышать такой сильный звон телеграфа, как в эти первые дни. В особенности вспоминается один ясный вечер. В нашем переулке было как-то особенно тихо, рокот экипажей по мощеным улицам города тоже стихал, и оттого яснее выступал непривычный звон… Становилось как-то жутко слушать этот несмолкающий, ровный, непонятный крик мертвого железа, протянувшегося в воздухе откуда-то из неведомой столицы, где «живет царь»… Солнце совсем зашло, только промеж дальних крыш, в стороне польского кладбища, еще тлела на небе огненно – багровая полоска. А проволока, холодея, кричала все громче, наполняя воздух своими стонущими воплями.
Потом, вероятно, проволоку подтянули, и гул стал не так громок: в обыкновенные неветреные дни телеграф только тихо позванивал, как будто крики сменились смутным говором.
В эти первые дни можно было часто видеть любопытных, приставлявших уши к столбам и сосредоточенно слушавших. Тогдашняя молва опередила задолго открытие телефонов: говорили, что по проволоке разговаривают, а так как ее вели до границы, то и явилось естественное предположение, что это наш царь будет разговаривать о делах с иностранными царями.
Мы с братом тоже подолгу простаивали под столбами. Когда я в первый раз прислонил ухо к дереву, – меня поразило разнообразие этих текучих звуков. Это был уже не один ровный и неглубокий металлический звон; казалось – целая звуковая река переливалась по дереву, сложная, невнятная, завлекающая. И положительно иной раз воображение ловило что-то вроде отдаленного говора.
В один прекрасный день этот говор, наконец, был переведен на обыкновенную речь. Кто-то принес на нашу кухню известие, что отставной чиновник Попков уже разобрал «разговор по телеграфу». Чиновник Попков представлялся необыкновенно сведущим человеком: он был выгнан со службы неизвестно за что, но в знак своего прежнего звания носил старый мундир с форменными пуговицами, а в ознаменование теперешних бедствий – ноги его были иной раз в лаптях. Он был очень низок ростом, с уродливо большей головой и необыкновенным лбом. Пробавлялся он писанием просьб и жалоб. В качестве «заведомого ябедника» ему это было воспрещено, но тем большим доверием его «бумаги» пользовались среди простого народа: думали, что запретили ему писать именно потому, что каждая его бумага обладала такой силой, с которой не могло справиться самое большое начальство. Жизнь он, однако, влачил бедственную, и в трудные минуты, когда другие источники иссякали, он брал шутовством и фокусами. Один из этих фокусов состоял в том, что он разбивал лбом волошские орехи.
И вот, говорили, что именно этот человек, которого и со службы-то прогнали потому, что он слишком много знает, сумел подслушать секретные разговоры нашего царя с иностранными, преимущественно с французским Наполеоном. Иностранные цари требовали от нашего, чтобы он… отпустил всех людей на волю. При этом Наполеон говорил громко и гордо, а наш отвечал ему ласково и тихо[3 - Легенду о вмешательстве иностранных держав в дело освобождения я слышал еще много лет спустя в Арзамасском уезде, Нижегородской губернии.].
Кажется, это была первая вполне уже ясная форма, в которой я услышал о предстоящем освобождении крестьян. Тревожное, неуловимое предсказание чудновской мары – «щось буде» – облекалось в определенную идею: царь хочет отнять у помещиков крестьян и отпустить на волю…
Хорошо это или плохо?
Если бы я писал беллетристический рассказ, то мне было бы очень соблазнительно связать этот вопрос с судьбой описанных выше двух «купленных мальчиков»… Выходило бы так, что я, еще ребенок, из сочувствия к моему приятелю, находящемуся в рабстве у пана Уляницкого, всей душою призываю реформу и молюсь за доброго царя, который хочет избавить всех купленных мальчиков от злых Уляницких… Это бы очень хорошо рекомендовало мое юное сердце и давало бы естественный повод для эффектных картин: в глухом городе неиспорченное детское чувство несется навстречу доброму царю и народной свободе…
Но, увы! – вглядываясь в живые картины, выступающие для меня теперь из тумана прошлого, я решительно вижу себя вынужденным отказаться от этого эффектного мотива. Не знаю, право, как это случилось… Может быть, просто потому что дети слишком сильно живут непосредственными впечатлениями, чтобы устанавливать между ними те или другие широкие связи, но только я как-то совсем не помню связи между намерениями царя относительно всех крестьян и всех помещиков – и ближайшей судьбой, например, Мамерика и другого безыменного нашего знакомца. И потому я не мог тогда чувствовать, что надвигающееся освобождение хорошо…
Да и впечатления были сбивчивы и смутны. На кухне у нас, сколько могу припомнить, ничего хорошего не ждали, – может быть, потому, что состав ее был до известной степени аристократический. Кухарка была «пани» Будзиньская, комнатная горничная «пани» Хумова, женщина с тонкими, изящными чертами лица, всегда говорившая по – польски, лакей Гандыло, конечно, очень бы обиделся, если бы его назвали мужиком. Из всей нашей тогдашней прислуги старая нянька и Будзиньская сохраняли деревенскую одежду и головы повязывали кичками, но и у них вид уже был не деревенский. Только кучер Петро, в своем вечном кожухе и тяжелых чеботах с отвернутыми книзу голенищами, имел облик настоящего мужика. Но он был человек очень молчаливый, все только курил и сплевывал, не высказывая никаких общих суждений. Лицо его оставалось постоянно суровым, загадочным и мрачным…
Человек вообще меряет свое положение сравнением. Всему этому кругу жилось недурно под мягким режимом матери, и до вечерам в нашей кухне, жарко натопленной и густо насыщенной запахом жирного борща и теплого хлеба, собиралась компания людей, в общем довольных судьбой… Трещал сверчок, тускло горел сальный каганчик «на припiчку», жужжало веретено, лились любопытные рассказы, пока кто-нибудь, сытый и разомлевший, не подымался с лавки и не говорил:
– А таки поздно… пора и спать…
Среди вечерних рассказов попадались и эпизоды панской жестокости, но обобщений не делалось. Есть на свете паны добрые и паны немилостивые. Бог таких наказывает, и иногда очень жестоко. Но и мужик обязан знать свое место, так как все это установлено богом. На долю этих людей бог выделил сравнительно легкую работу, полную сытость и немало досуга в теплой кухне… То неизвестное, что надвигалось на жизнь, представлялось им поэтому отчасти тревожным. «Щось буде», – но хорошо это или плохо – неизвестно. Вообще же – беспокойно…
Это, впрочем, было настроение и не одной нашей кухни.
В одно раннее утро на нашем дворе оказалась большая толпа мужиков в свитках и бараньих шапках. Они только что привалили из деревни, за плечами у многих были берестяные кошелки или через плечо – холщовые торбы. Толпа тихо гудела, сгрудившись около широкой лестницы большого дома, и даже на некотором расстоянии чувствовался тяжеловатый мужицкий запах – пота, дегтя и овчины. Вскоре сверху, из хозяйского дома, спустились два старика без шапок и сказали что-то тревожно двинувшейся к ним толпе. Среди мужиков раздался общий негромкий, как будто довольный говор, а затем вся толпа опустилась на колени: на верху лестницы показалась, поддерживаемая паннами – камеристками, госпожа Коляновская. Это была полная, величавая дама, с очень живыми, черными глазами, орлиным носом и весьма заметными черными усиками. На верху лестницы, высоко над коленопреклоненной толпой, окруженная своим штатом, она казалась королевой среди своих подданных. Она сказала им несколько милостивых слов, на которые толпа ответила каким-то особенно преданно – радостным гулом.
В полдень на дворе составили несколько столов и угощали мужиков перед обратной дорогой…
Из разговоров старших я узнал, что это приходили крепостные Коляновской из отдаленной деревни Сколубова просить, чтобы их оставили по – старому – «мы ваши, а вы наши». Коляновская была барыня добрая. У мужиков земли было довольно, а по зимам почти все работники расходились на разные работы. Жилось им, очевидно, тоже лучше соседей, и «щось буде» рождало в них тревогу – как бы это грядущее неизвестное их «не поровняло».
В это же лето Коляновские взяли меня к себе в имение. Поездка эта осталась у меня в памяти, точно картинка из волшебного сна: большой барский дом, и невдалеке ряд крестьянских хаток, выглядывавших из-за косогора соломенными крышами и белыми мазаными стенами. По вечерам барский дом светился большими окнами, а хатки мерцали как-то ласково и смиренно разбросанными в темноте огоньками. И это казалось таким мирным, дружелюбным и согласным… В хатах жили мужики, те самые, которые однажды сломали наше крыльцо и построили новое, – умные и сильные. В доме – господа, добрые и ласковые. За столом у Коляновской собирались дальние родственники и служащие, народ смирный, услужливый и мягкий. На всем лежал какой-то особенный отпечаток прочно сладившегося быта, без противоречий и диссонансов. Помню, однажды за вечерним столом появился какой-то заезжий господин в щегольском сюртуке, крахмальной сорочке и золотых очках – фигура, резавшая глаз своей отчужденностью от этого деревенского общего тона. Между прочим, он стал доказывать, что мужики – «быдло»[4 - Скот, скотина (пол.), – Ред.], лентяи, пьяницы и ничего не умеют. Коляновская спокойно возражала: вот этот дом, в котором мы сидим, и все в этом доме до последнего стула сделано ее мужиками. Дом в городе строили они же, и всем распоряжался умный старый мужик… Спрашивается: какой заграничный архитектор построит прочнее и лучше? И бедные родственники и официалисты[5 - Служащие в имении (пол.). – Ред.] убежденно поддакивали, а мнению чужого господина как будто некуда было втиснуться в это законченное и бесповоротное убеждение.
Я тоже чувствовал, что права Коляновская. Незнакомый деревенский мир, мир сильных, умелых и смиренных, казался мне добрым и прекрасным в своем смирении. По вечерам мимо барского сада возвращались с работы парубки и дивчата, в венках из васильков, с граблями и косами на плечах и с веселыми песнями… Когда сняли первый сноп в поле, то принесли его торжественно в барский двор. Сноп качался над головами парубков в бараньих шапках и девушек в венках из васильков. И казалось, что он сознательно принимает молчаливое участие в этой радости труда. Это называлось «зажинки». С еще большей торжественностью принесли на «дожинки» последний сноп, и тогда во дворе стояли столы с угощением, и парубки с дивчатами плясали до поздней ночи перед крыльцом, на котором сидела вся барская семья, радостная, благожелательная, добрая. Потом толпа с песнями удалилась от освещенного барского дома к смиренным огонькам за косогором, и, по мере того как певцы расходились по хатам, – песня замирала и таяла, пока не угасла совсем где-то в невидном дальнем конце деревни. И все казалось так мирно, прекрасно, цельно и ненарушимо… И все вспоминается мне, как уголок крепостной идиллии, освещенный мягкими лучами заката.
А между тем где-то далеко в столицах судьбы крепостного строя уже взвешивались и в городе носилось тревожное ожидание. «Щось буде», – кричала чудновская мара. «Старая фигура», стоявшая с незапамятных времен, вдруг взяла да упала… Рогатый поп ходит по городам – должно быть перед концом мира… «Щось буде» – испуганно воет телеграфная проволока. На кухне вместо сказок о привидениях по вечерам повторяются рассказы о «золотых грамотах», о том, что мужики не хотят больше быть панскими, что Кармелюк[27 - Кармелюк (1784–1835) – выдающийся руководитель борьбы крестьян против помещиков на Подолии в 30-х годах XIX века. Бывший крепостной (уроженец Литинского уезда, Подольской губ.), он отдан был помещиком за «непокорный нрав» в солдаты. Кармелюк бежал из армии, был сослал в Сибирь, откуда тоже бежал и стал во главе организованных им партизанских отрядов, громивших панов, богачей и ненавистных народу чиновников.] вернулся из Сибири, вырежет всех панов по селам и пойдет с мужиками на город. Неведомая страна за пределами города представлялась после этих рассказов темной, угрожающей, освещенной красным заревом пожаров. В детскую душу, как зловещая зарница из-за тучи, порой заглядывала непонятная тревога, которая, впрочем, быстро исчезала с впечатлениями ближайшего яркого дня…[28 - …впечатлениями ближайшего яркого дня… – В архиве Короленко сохранилась рукопись незаконченной повести «На рассвете», относящаяся к 1887 году, в которой автор в беллетристической форме передает воспоминания своего детства. Из нее Короленко напечатал только одну главу «Щось буде» с подзаголовком «Из неоконченной повести „На заре“» («Киевский сборник в пользу пострадавших от неурожая», Киев, 1892).]
IX
«Фомка из Сандомира» и помещик Дешерт
Около этого времени я прочитал первую толстую книгу и познакомился с одним ярким представителем крепостного строя.
Читать все мы выучились как-то незаметно. Нам купили вырезную польскую азбуку, и мы, играя, заучивали буквы. Постепенно перешли к чтению неизбежного «Степки – растрепки», а затем мне случайно попалась большая повесть польского писателя, кажется, Коржениовского[29 - …кажется, Коржениовского. – Повесть «Фомка из Сандомира» написана не Коржениовским, а другим польским писателем – Яном Грегоровичем (1818–1891).], «Фомка из Сандомира» («Tomek Sandomierzak»). Я начал разбирать ее почти еще по складам и постепенно так заинтересовался, что к концу книги читал уже довольно бегло. Результатом этого, может быть слишком раннего чтения, как мне кажется, явилось некоторое ослабление зрения и значительное расширение представлений об обществе и деревне.
Книга мне попалась на первый раз очень хорошая: в ней рассказывалось о маленьком крестьянском мальчике, сироте, который сначала пас стадо. Случайно он встретился с племянницей приходского ксендза (proboszcza), своей сверстницей, которая начала учить его грамоте и пробудила умственные стремления. Добрый ксендз упросит пана отпустить подростка, и тот пошел в свет искать знания. В повести не было ни таинственных приключений, ни сложной интриги. Просто, реально и тепло автор рассказывал, как Фомка из Сандомира пробивал себе трудную дорогу в жизни, как он нанялся в услужение к учителю в монастырской школе, как потом получил позволение учиться с другими учениками, продолжая чистить сапоги и убирать комнату учителя, как сначала над ним смеялись гордые паничи и как он шаг за шагом обгонял их и первым кончил школу. Ему предстоит блестящая карьера, но ученый мужик возвращается в деревню, чтобы стать деревенским учителем. Здесь он опять встречает подругу своего детства. Конец повести, вероятно, несколько сентиментальный, – вспоминается мне озаренным радостью честного, хорошего счастья.
Я и теперь храню благодарное воспоминание и об этой книге, и о польской литературе того времени. В ней уже билась тогда струя раннего, пожалуй, слишком наивного народничества, которое, еще не затрагивая прямо острых вопросов тогдашнего строя, настойчиво проводило идею равенства людей…
За этой повестью я просиживал целые дни, а иной раз и вечера, разбирая при сальной свече (стеариновые тогда считались роскошью) страницу за страницей. Помню также, что старшие не раз с ласковым пренебрежением уверяли меня, что я ничего не понимаю, а я удивлялся: что же тут понимать? Я просто видел все, что описывал автор: и маленького пастуха в поле, и домик ксендза среди кустов сирени, и длинные коридоры в школьном здании, где Фомка из Сандомира торопливо несет вычищенные сапога учителя, чтобы затем бежать в класс, и взрослую уже девушку, застенчиво встречающую тоже взрослого и «ученого» Фому, бывшего своего ученика.
Знакомство с деревней, которое я вынес из этого чтения, было, конечно, наивное и книжное. Даже воспоминание о деревне Коляновских не делало его более реальным. Но, кто знает – было ли бы оно вернее, если бы я в то время только жил среди сутолоки крепостных отношений… Оно было бы только конкретнее, но едва ли разумнее и шире. Я думаю даже, что и сама деревня не узнает себя, пока не посмотрится в свои более или менее идеалистические (не всегда «идеальные») отражения.
Как бы то ни было, наряду с деревней, темной и враждебной, откуда ждали какой-то неведомой грозы, в моем воображении существовала уже и другая. А фигура вымышленного Фомки стала мне прямо дорогой и близкой.
Однажды, когда отец был на службе, а мать с тетками и знакомыми весело болтали за какой-то работой, на дворе послышалось тарахтение колес. Одна из теток выглянула в окно и сказала упавшим голосом:
– Дешерт!..
Мать поднялась со своего места и, торопливо убирая зачем-то работу со стола, говорила растерянно:
– Иисус, Мария, святой Иосиф… Вот беда… И мужа нет дома.
Дешерт был помещик и нам приходился как-то отдаленно сродни[30 - …приходился как-то отдаленно сродни. – В первоначальной редакции этой главы (журнал «Современность», 1906, № 1) имеется следующее описание внешности Дешерта (названного там измененным именем – Дегерт): «Человек был огромного роста, очень худой, с длинными усами и большими мрачными глазами. Платье на нем обвисало, точно на скелете, брови почти всегда были сдвинуты, и на лице постоянно стояло выражение недовольства и как бы презрения к кому-то, легко переходившее в вспышки бурного гнева».]. В нашей семье о нем ходили целые легенды, окружавшие это имя грозой и мраком. Говорили о страшных истязаниях, которым он подвергал крестьян. Детей у него было много, и они разделялись на любимых и нелюбимых. Последние жили в людской, и, если попадались ему на глаза, он швырял их как собачонок. Жена его, существо бесповоротно забитое, могла только плакать тайком. Одна дочь, красивая девушка с печальными глазами, сбежала из дому. Сын застрелился…
Все это, по – видимому, нимало не действовало на Дешерта. Это была цельная крепостническая натура, не признававшая ничего, кроме себя и своей воли… Города он не любил: здесь он чувствовал какие-то границы, которые вызывали в нем постоянное глухое кипение, готовое ежеминутно прорваться… И это-то было особенно неприятно и даже страшно хозяевам.