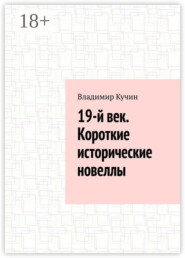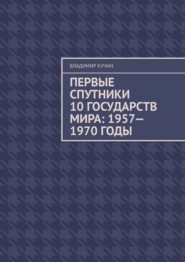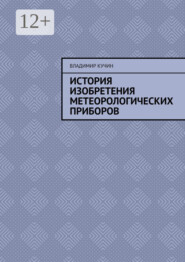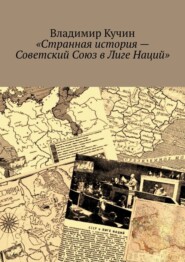По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сага Низовской земли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На общем прощальном построении прапорщиков ускоренного выпуска начальник Тверского училища полковник Кучин сказал небольшую речь, которую закончил словами:
– Желаю вам, господа, честно служить нашему Отечеству!
Дмитрий Алексеевич в своем напутствии не упомянул о службе государю императору, и это было всеми подмечено. Дальнейшая судьба полковника, а с 17-го года генерала Дмитрия Алексеевича Кучина, сложилась трагически. Его старшие сыновья воевали с красными в рядах Добровольческой армии, а он остался в Твери и командовал курсами красных командиров. В конце 20-х годов его перевели в Москву, а в начале 30-х он был, как и многие другие принявшие советскую власть военспецы, арестован, и, возможно, расстрелян.
Мой путь на Украину лежал через Москву, поэтому я заехал к своим родителям. Мать наказала мне посетить, если получиться, дом и могилу своего брата и моего дяди Николая Боцариса, а отец высказал одну очень верную мысль:
– Добром эта война не кончиться, Саша береги себя.
Отец не ошибся, просьбу матери я выполнил – но уже после ее смерти – в 1921 году. Дом инженера Боцариса в Киевской губернии сгорел, документы ему принадлежавшие, в том числе все проекты пропали. Разыскать что-либо было невозможно, могила Николая Боцариса уцелела, но склеп, над ней построенный, был разграблен и порушен. Но все это я узнал через шесть лет.
В Киеве я направился в штаб недавно образованного Юго-Западного фронта генерала Алексеева. В штабе меня определили в 12-ю кавалерийскую дивизию 8-й полевой армии. В этом войсковом формировании я служил с сентября 15-го года по декабрь 17-го года. В январе 17-го я получил звание подпоручика и был переведен в тыловое управление 8-й армии. Штаб 8-й армии перемещался по Украине, последним местом моей службы был город Бердичев в Киевской губернии. Революции февральская и октябрьская разрушили основы российской армии, солдаты массово дезертировали, и в конце 17-го года штаб 8-й армии перестал функционировать.
Служить более было негде и некому, под новый 18-й год я спорол с шинели офицерские погоны, оторвал от папахи кокарду и покинул Бердичев. Мой путь лежал до Казатина, оттуда до Киева и далее до Москвы. Летучие отряды красногвардейцев ловили на Киевской железной дороге офицеров и беспощадно и без разбору их расстреливали, но мне удалось избежать этой участи. В Москве я наведался к родителям. Отец долго со мной разговаривал, и подытожил:
– Надо, Саша, к новым властям прибиваться. Профессия твоя хорошая, политикой ты не занимался, греха на тебе никакого нет. Я подумаю, как помочь тебе.
Я середине января 18-го года я поехал в Нижний, где остановился у своей сестры Зинаиды. Ее муж Илья Алабин не работал, и семья жила со случайных заработков Зинаиды, которая перешивала вещи, которые ей приносили подозрительные личности – обитатели Балчуга и Нового рынка. На второй день по приезду я направился в дом Колышевых на Малую Ямскую улицу. Там были большие перемены – первый этаж дома и каменный пристрой был заняты новыми постояльцами. На втором этаже жили бывшие владельцы. Луша Колышева с Маргаритой продолжали жить в одной из больших комнат второго этажа.
Регистрация брака в то время не проводилась – не было служб, а в церковь мы решили не идти. Состояние духа братьев Колышевых было надломлено событиями 17-го года, которые включали обыски, допросы, отбор собственности и уплотнение. Когда Луша представила меня своему отцу Сергею Ивановичу Колышеву как мужа, то он отнесся к этой новости без интереса. Свою комнату сестры Маргарита и Луша разгородили занавеской, и за этой занавеской, возможно, прошел самый лучший месяц всей моей жизни.
В феврале 18-го я уехал к родителям в Москву, где прожил еще месяц. Отец нашел способ устроить меня по специальности, но мне пришлось вернуться на Украину, на этот раз в Харьков. В 18-м я приехал в Нижний еще раз – в конце года. Причиной этого было то, что Луша родила мне первенца, и я испросил у красного командования отпуск. Сына мы назвали Игорем. В январе 19-го года вместе с женой я уехал на Украину, где моя служба в конце 22-го года завершилась. Три года с 20-го по 22-й я воевал в составе 1-го корпуса Червонного казачества в строевой должности заместителя командира кавалерийского полка по конному запасу.
Когда с женой Лукерьей Сергеевной я с фронтов Гражданской войны вернулся в Нижний, моему сыну Игорю уже было 4 года. Все это время он находился на воспитании своей тетки Маргариты Колышевой. Игорь принимал ее за маму, и долго дичился и привыкал ко мне и Луше – своим неизвестно откуда появившимся родителям. Мой тесть Сергей Иванович Колышев умер годом ранее, и его комната на втором этаже была занята каким-то советским чиновником, но когда я поступил на службу, то немедленно его выселил и сам заселился в его комнату. Этому способствовало то, что в моботделе Губисполкома, куда я явился для постановки на учет как участник Гражданской войны и бывший красный командир, внимательно изучили мои документы и предложили мне продолжить работу и службу в хозотделе Губ. Ч. К. В этом отделе, а впоследствии управлении, я проработал до своего ареста в 1937 году.
Купец
Товарищество по торговле мясом и колбасами «Гордей Колышев и брат» я основал на капиталы отца, владевшего в Костромской губернии несколькими мясохладобойнями. Дела у нас шли бойко, и наша коммерция расширялась. В начале 19-го века я, Гордей Колышев владел тремя магазинами колбасного, мясного и бакалейного товара в Нагорной части Нижнего, колбасным коптильным заводом в Кунавинской слободе, двумя складами на Сибирской пристани, двумя мясохладобойнями в Печорской слободе.
Я построил большой двухэтажный кирпичный дом на Малой Ямской улице, где сам занимал первый этаж, а второй этаж отдал своему младшему брату Сергею.
Жизнь моя подвигалась в больших трудах и заботах. Проблему образования своей семьи я безуспешно решал лет до сорока, но ни одной барышни, которая пришлась бы мне по вкусу и по душе, не повстречал. Жениться же по расчету – означало обрекать себя на зависимость от тестя и тёщи, чего мне по моему независимому характеру делать не хотелось. Поэтому две дочери моего младшего брата Сергея – Маргарита и Лукерья – почитались мной как мои собственные.
Начался 20-й век. В 1900 году летом в четыре часа дня, иначе говоря, к обеду, в наш дом пожаловал журналист и писатель Алексей Пешков, снимавший квартиру неподалеку на Третьей Ямской улица. Пешков был ровесником моего младшего брата, и они были шапошно знакомы лет с 20-ти. Свои произведения Пешков подписывал псевдонимом «Максим Горький», и по своему поведению вполне псевдониму соответствовал. Со мной Алексей Пешков знаком не был, поэтому я, когда мне приказчик доложил о визитере, предположил, что журналист приехал по денежным делам. И не ошибся.
Обед заканчивался, я в своей семье придерживался распорядка более европейского, чем старорусского, поэтому мы с братом после обеда не спали, а выпивали по чашке кофе, я выкуривал папиросу (брат не курил), и мы уезжали в главную контору на Большую Покровскую. Пешков как раз успел к этой процедуре. Когда Пешков вошел в столовую, брат его представил:
– Гордей Иванович, позволь рекомендовать тебе Алексея Максимовича Пешкова, моего знакомого по годам юности, а ныне известного журналиста и писателя Максима Горького.
Мы поздоровались. Пешков сел на венский, обитый белой кожей стул, приказчик подал ему чашку кофе и сотейник с молоком. Пешков отпил глоток кофе, и наклонился к большому кожаному портфелю, который принес собой и поставил рядом со стулом. Мне подумалось, что писатель хочет достать какую-то рукопись, и будет просить денег на ее издание, но я ошибался. Пешков извлек свою пачку спичек и нераспечатанную коробку папирос (не припомню точно, но это были московские «Дукат» или «Пушка») и положил ее перед собой на стол. Затем Пешков разрезал столовым ножом папиросную коробку, достал папиросу, чиркнул спичку и закурил. Прошло минут пять-шесть, писатель не сказал ни слова, пауза затягивалась. Я тоже ничего не говорил. Все это действие напоминало некую театральную сцену, Пешков явно находился в роли, а я решил ему в этом не препятствовать.
Наконец, он докурил папиросу, положил смятый окурок в пепельницу, отпил еще глоток остывшего кофе, отер свои усы пепельного цвета и молвил:
– Я, Гордей Иванович, пришел к вам по делу безотлагательному, важнейшему для современного состояния народного образования…
Говорил Пешков длинными фразами, неторопливо, иногда напирал на «о», но выглядело это не очень естественно. Чувствовалось, что общение с писателями и издателями в столицах приучило его к роли этакого матерого и угрюмого человека с волжских берегов, все повидавшего, все познавшего и множество горя в своей жизни испившего (на дату беседы писателю было 32 года). Я произведений Пешкова-Горького не читал, но точно знал, что происходил он из мещан, его дед владел большим двухэтажным домом на Ковалихинской улице, где, скорее всего, будущий писатель и родился. Дед писателя особыми капиталами не обладал, но явно не бедствовал. Суть длинной речи журналиста Пешкова сводилась к одному – он просил денег на постройку в Нижнем народного дома. Основным пайщиком постройки здания выступил уроженец Казани оперный певец Федор Шаляпин, но многие коренные нижегородцы также участвуют в этом благом деянии.
Когда Пешков-Горький закончил свой бесконечный нравоучительно-финансовый монолог, я подал свою маленькую реплику-вопрос:
– Алексей Максимович, наше с братом товарищество могло бы дать некую паевую сумму, но кто еще из нижегородского купечества участвует в этом благом деле? Нет ли у вас с собой списка этих господ с указанием сумм пожертвований? Кроме того, нам желательно узнать, как будет зафиксировано наше участие в этой народной подписке.
Пешков выслушал меня весьма внимательно, затем наклонился к своему необъятному портфелю, покопался в нем, и достал два документа – один подал мне, а другой моему брату. Мой документ представлял собой список пайщиков – жертвователей. Там были фамилии Калашникова, Каменских, Сергеева, Ногеса, Заплатина, Волкова и еще нескольких нижегородских меценатов. Сумма взноса колебалась от пятисот до тысячи рублей.
Фамилии из списка пайщиков вызвали у меня дополнительные вопросы:
– Алексей Максимович, неужели Курбатовы, Стахеев, Булычев, Богомолов отказались войти в народное дело своим паем? Не верится.
Пешков взглянул на меня неожиданно зло, после чего вернулся к своему трагическому образу народного защитника и произнес второй длинный монолог:
– Они бы дали, да я не возьму ….
Суть второго монолога журналиста Пешкова состояла в том, что деньги этих воров и злодеев «кровушкой и потом народа политы»… и все в этом духе.
Когда Пешков закончил свою речь, я обратился к брату:
– Сережа, что скажешь? Пятьсот рублей серебром под расписку о внесении на счет паевого общества мы дать можем, не так ли?
Сережа на это не возражал, но задал Пешкову вопрос по своему документу – это был эскиз фасада и план строительства здания Народного дома:
– Алексей Максимович, строительство намечено за Острожной площадью на Новой стройке. Помнится, там должны были строить камвольную фабрику, и эскиз, который ты нам предоставил точно это сооружение из себя и представляет. Архитектура Дома явно слабая, казенная. Ты мог бы напомнить основному пайщику Шаляпину, что он дает деньги для улучшения народной жизни, а в данном случае наши сограждане из беднейших слоев после работы на одной фабрике пойдут отдохнуть на другую фабрику.
Алексей Максимович в это время с явным наслаждением курил третью по счету папиросу, но речь Сережи о сооружении для народа вместо Народного дома очередной фабрики его обидела. Он затушил папиросу, и жестким скрипучим голосом нараспев произнес:
– Я, господа Колышевы, вам благое дело предлагаю, а вы умничаете, картинки рассматриваете. Меняются люди…
Третий монолог Пешкова-Горького был посвящен процессу ухудшения человеческой породы от прогресса в целом, и от общения с «золотым тельцом» в частности. Пока знаменитый писатель рассказывал нам о своей оценке людей Нижнего в части их бездушия, жадности и звериной злобы, я подозвал приказчика и написал записку к управляющему своей конторы. В записке я поручил ему выдать Алексею Пешкову пятьсот рублей серебром, но взять с Пешкова расписку в получении денег для внесения безвозмездного пая на строительство Народного дома на Новой стройке в Нижнем Новгороде. Несмотря на кажущийся ораторский запал, моя записка, и ее текст не ускользнули от взгляда внимательного хитрого писателя Горького. Он еще немного поговорил и замолчал.
Я встал и произнес:
– Алексей Максимович, вы нас убедили, сейчас вас довезут до нашей конторы и там управляющий выдаст вам на строительство пятьсот рублей. Не обессудьте, ассигнаций у нас нет, работаем в рознице, примите серебром – целковыми.
Писатель откланялся и ушел. Мы выпили еще по чашке кофе. Сергей подвел итог:
– Талантлив Алеша, пишет хорошо, а играет еще лучше, в театр идти не надо.
Расписку в получении нашего паевого взноса Пешков написал (подпись на денежных документах псевдонима не содержала – писатель расписывался так – «А. Пешков»), она хранилась у меня в конторе до событий января 18-го года, а затем была изъята вместе с другими документами и бесследно исчезла. Народный дом в Нижнем построили. Чтобы скрыть первичный фабричный проект на двух обычных для фабрики боковых колоннах, в которых проходили трубы отопления и вентиляции, приделали сверху портики в римском стиле. Здание Народного Дома было сложено из красного кирпича, но штукатурить дом не стали и прямо в этом «фабричном виде» его в сентябре 1903 года открыл своим концертом Федор Шаляпин. Имена других пайщиков – меценатов при открытии Народного дома не упоминали.
Прошло 15 лет, надвигался год 18-й. В Нижнем события октября 17-го прошли спокойно. В контору моего товарищества новые власти прислали уполномоченного, в нашем деле он ничего не понимал, но забрал себе ключи от денежных ящиков и главную печать. Уполномоченный появлялся в конторе два-три раза в неделю, поэтому дела у нас встали. Затем наши склады на Сибирской пристани были реквизированы вместе с товаром, а взамен я получил бумажку действительной цены и значения не имеющую. Удивительно было то, что прежний губернатор и его чиновники продолжали работать (или только присутствовать) в губернаторском доме в Кремле, только полицейского стражника в воротах Кремля заменил красногвардеец.
Идиллия завершилась в конце 17-го года. Новая власть сыпала декретами как из рога изобилия. В конце второй декабрьской недели СНК, который возглавлял Ленин, национализировало банки во всей Р. С. Ф.С.Р. со всей наличностью. У банка на Большой Покровской днем и ночью стали дежурить красногвардейцы. Было холодно, поэтому они разжигали в чугунной цветочной вазе костер, у которого грелись. Топливом им служили круглые газетные тумбы, которые они подтащили на свой «пост» от Губернского суда и Дворянского собрания. В самом начале 18-го года прошел слух, что сбежал наш городской голова крупнейший волжский судовладелец Сироткин. За ним в дом на набережной явилась «Чека», а его и след простыл. Я знал Сироткина и догадывался, что сбежал он не с пустыми руками, а деньги хранил не в Госбанке на Большой Покровской, а, скорее всего, в золотых царских червонцах в надежном месте.
8 января 18-го года «Чека» пришла и в мою контору. Грозную организацию представлял юноша кавказской наружности, одетый в черное пальто и кадетский башлык, и солдат с винтовкой, красной повязкой на рукаве и красной ленточкой, пришитой к папахе. Первым кого чекисты спросили, был большевистский уполномоченный с ключами и печатью, но он уже дней десять у нас не появлялся. Выяснилось, что уполномоченный бежал, и его новые «жандармы» разыскивают. Уполномоченный успел прихватить содержимое нескольких денежных ящиков в других товариществах и компаниях, которые ему были поручены во временное управление Губ. Комом и Губ. Исполкомом. Позвали дворника, вскрыли мой денежный ящик, забрали оттуда наличность ассигнациями, керенками и царским серебром, спросили о золоте. Я ответил, что золота не имею.
Юноша – чекист мне не поверил, поэтому мы поехали на моей пролетке в мой дом на Малой Ямской улице. Деньги перед этим погрузили в мешок, который солдат унес в двухэтажный особняк на улице Малая Покровская (это была резиденция Губ. Ч.К. – кому принадлежал особняк, я запамятовал), мимо которого мы проезжали. Пока солдат отсутствовал, я спросил у юноши, в чем причина такой спешки. Чекист ответил:
– В Петрограде враги революции совершили дерзкое нападение на нашего товарища Моисея Урицкого. Поэтому товарищ Ленин объявил всем Вам красный террор.
Более всего меня удивило в этом пафосном сообщении отнесение меня – скромного производителя колбас и мясного и бакалейного торговца, политикой никогда не занимавшегося, – к врагам революции эпитетом «Вам». После сказанной фразы юный чекист сверкнул своими красивыми карими глазами, и постучал себя по карману. Может быть, там у него лежал револьвер, а может быть, это был обычный, ничего не значащий, жест.