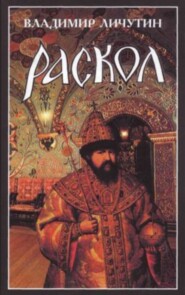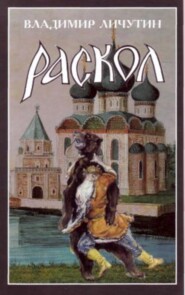По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И рыбари двинулись по озеру, всматриваясь в зажоры, чтобы не угодить русальнице в охапку. Монастырь темнел на полысевшем берегу меж снежных заплат, словно гранитный камень-одинец; вороны вились заполошно над мереженной палатой; знать, монахи доставали из сушила снасти на починку, готовились к путине. Рыбака одна заря красит. На отмелом месте за насыпным островком, где лед еще стоял плотно и не издряб под игольчатым снегом-наракуем, монахи споро пробили пешнями две майны, шестами-пехальницами протолкнули в воде ужища. Помолились каменному кресту, похожему на иссиня-черном озере на пойманного в засаду путника… Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас…
Никон потиху сбрасывал полотно в прорубь, чтобы впусте не замотать добрый зачин; Флавиан со своей стороны тянул из иордана поплавь к себе, умиренно взглядывая на монастырские Святые ворота и на слюдяные оконца казенной палаты, окрашенные алым, на тусклую покать неба с косым парусом тучи. Знать, с востока накатывало ночным снегом. А руки-то чутко слушали сетные переборы, сбрасывали кольцами на лед, и сердце с замиранием ждало, когда толкнется в ячею острая щучья голова, ульнет костяной щекою за нитку… Вот и монаху, оказывается, живущему лишь молитвой, и послушанием, и твердым постом, до смерти близко и неиссекновенно мирское чувство удачи. Флавиан забыл и про кожаные верхонки, и вода, сливаясь с переборов на голые багровые руки, обжигала, как кипяток; но чернец этой боли не чуял, только кривая ухмылка как бы приклеилась к щекастому заветренному лицу. И то сказать: с полудня секли пешнями озеро, искали удачи, до устали полоскались в воде, и неуж с пустыми руками, на радость завистникам, и кончить послушание?
И тут заходило, заполоскалось в майне, натянулась сеть и поползла в глубину, выдирая тетиву из заколевших пальцев; казалось, сейчас кожа сползет лафтаками с кистей и обнажатся сизые суставцы и костки.
… Да какая там боль? Сердце подпрыгнуло и застряло в горле. Выворотил Флавиан на лед щуку; экий оковалок, пуда на два потянет, матка-икряница, похожая на осиновый пятнистый окомелок, вся ровная в теле. Щука вдруг сама выпросталась из снасти, уже готовая метнуться в воду. Но и монах в своем деле не простак, и не этаких расторопниц обхаживал. У него и колотушка березовая у ноги. Споро перетянул матку по костяному лбу и отвалил рыбину от греха подальше. А тут и снова заиграло в майне. Еще достал трех молочников-пудовиков да несколько травянок. Знать, все стадо переняли, встали на тропу. Подноровила удача.
«Давай собирайся, не промешкав, и пойдем», – сухо прикрикнул Никон со своей стороны проруби, словно вздумал перейти по воде, аки по суху. Взглянул на иордань. Ледяное крошево уже остыло, стянулось пленкой. В западе пролились брусничные реки, по-над озером потянуло сквозняком. Никон слегка приобвалился на пешню, задержал взгляд на небе. Почуял, как всякая телесная костка и жилка истомилась и ноги в голенях будто натуго пережало оборами, сырью натянуло сквозь кожаные уледи, в сапогах хлюпало, как в болотине. Но монах еще храбрился, не давал себе послабки. Флавиан смотрел на Никона во все глаза и дивился его святой красоте; закатные отсветы легли на морщиноватое обличье монаха, разгладили его, и медяного цвета лицо стало умиренным, почти неземным. Словно апостол Павел вдруг явился в северные земли из палестин, чтобы объявить о вселенских грехах. Такие вот святые люди, головою достающие до небес, писаны художной рукою изуграфа Дионисия по стенам Рождественского собора.
«Заснул, что ли, чудо ты гороховое?» – повторил Никон, смягчив голос, поддаваясь детскому чистосердечию служки. Тот собирал рыбу в крошни и невольно загляделся на икряницу, ее почти женское пузьё, всклень налитое икрою; из устья тонкой желтоватой струйкой уже стекали крохотные яйца; щука сонно млела, выворотив на монаха змеиный мрачный глаз, и костяные жаберные щеки хлюпали, как горновые меха.
«Живуща тоже… Гли-ко, жива душа, хоть и кровь рыбья, – зажалел Флавиан добычу, огладил пробежистое слизкое тело, уже тронутое по хребту смертной изморосью. – Фунтов пять икры-то потянет. Сколько бы наплодила баба, ой-ой».
И завалил скользкую, еще трепетно нежную щуку в берестяной пестерь.
«Тебя до ночи ждать? Сухой нитки на мне нету», – зажалобился Никон, не стерпел, подошел к служке, устало сронил голову, и ничего пастырского, владычного, что вводит простых смертных в слезливо восхищенный трепет, не осталось в старце. Будто древний изжитый дедко с ключкой подпиральной оказался возле иордани любопытства ради, чтобы восхититься удачей рыбаря.
«Пола мокра, дак и брюхо сыто, – ответил Флавиан, позволив себе неожиданную вольность. И сразу опомнился, пропел ласково: – Ой, батюшко, Свет наш владычный… Не нами молвлено: рыбака одна заря красит. Бог послал свежинки заради Светлого Воскресения, отвалил гостинчика. А нынче же икорку размотаем, пересыплем сольцою, да и так ли хорошо откушает наше Благополучие…»
«Будет тебе, воркотун…»
Никон скидал снасть в крошни, пестерь же с рыбою хотел вскинуть на загорбок, но служка восстал, перехватил лямки.
«Пособи, великий старец. Твоими молитвами и живем. Эко ты о нас, грешных, хлопочешь. Без тебя, патриарх, мы бы давно Богу душу отдали…»
Скоро стемнилось. Надо поспешать. Неровен час, угодишь под лед, поминай, как звали. Монастырь впереди чернел причудливой уступистой горою, сулил тепла и затулья. В окнах надвратной церкви Богоявления мелькнули огоньки, а после ровно, мирно затлели: то иеромонах Памва возжег свечи, готовился к службе, поджидал к вечерне великого старца, боясь прогневить. И вдруг почудилось Никону, что из низины от переклада через ручей метнулись две, нет, три фигуры, низко нагибаясь, пробежали к монастырю с южной стороны, перекинулись через ограду… Да нет, пустое втемяшилось: какому находальнику нужна нищая смиренная обитель, где монахи едва перемогают зиму рыбкой-сушняком да житними колобами? Захотели бы разбойники поживиться, так осадили бы Белозерский монастырь; там-то плотно стоят царевыми дарами, да и сытно, нехлопотно едят… В темени-то что только не примерещит. Никон протер глаза, едва дотянув до лица чугунную руку. Невольно вздохнул: эх, укатали сивку крутые горки, было езжено, диво на диво; а нынче вот раскис, как кисель гороховый.
… Сейчас бы оладушек с медком, да груш в узваре, да арбуза астраханского и папушника отломок. Голодный-то, кажись, и свой палец укусишь. Давно ли многопировником был, лебяжьих крылышек из государевой руки не хотел, стерляжьим мясом брезговал.
… Вот он, грешный ветхий человек, и на конце света при последних летах донимает меня. Невольно вздохнул Никон. Рядом пыхтел Флавиан, тащил на горбе пуда четыре рыбы, да и у Никона торба невпусте, давит на крылья, выжимает соки. Ряса на вате встала колом, гремит при каждом шаге; вот и луна вылилась, узенькая, серпиком, последние снеговые заплатки заголубели, и розвесь березовых ветвей, отпотевших днем, сейчас заискрилась, унизанная густым алмазным крошевом.
… И где дворцовые потехи, игра ума и кудесы сердца? Душа в суете, как зобенька берестяная, все гожее вытечет вон, не ужмешь в запасец…
… Это Господь родимый меня милует, протянул руку и спас, услал сюда.
И снова вздохнул Никон и неведомо отчего всхлипнул. Глухо закашлял, сглатывая слезу.
В Святых воротах горели ночные фонари, доправленные тюленьим жиром; вахтенный стрелец сквозь решетку выглядывал подошедших, а узнав старца, облегченно вздохнул; слава Христу, обошлось без греха. Пристав уже икру мечет, места себе не находит.
«Прибери рыбу-то, да отдай стряпущему. Там подкеларник разберется с уловом, куда деть. Да неси с поварни, чего потрапезовать, милый человек», – приказал Никон и, пригребая закоченелыми сапожками, побрел к себе в брусяную келеицу.
* * *
«Помыкаю им, как работником. А он ведь рясофорный монах, мне совсельник, братец келейный. Захочет – и отбою даст», – туманно подумал Никон о Флавиане и тут же призабыл его.
В клети было жарко натоплено, услужила братия. Еще в сенях кой-как стянул с себя лопатину, остался в одних исподниках. Снял с шестка корчагу, плеснул в лохань, опустил ноги в парящую воду, и так вдруг истомно стало, что едва сдержался, чтобы не вскрикнуть; левое веко задрожало в ознобе, и глаз стал худо видеть, будто бельмо натекло. Над низенькой дверью под притолокой висела парсунка в раме; такая же в свое время была и в келье на Истре. Сидит монах, прикован цепями к камени, и на нем написано: нищета… В слюдяное оконце, сшитое нитками из лоскутьев, взглядывал краешек луны, и блеск ее ложился на картину, отчего лицо старца благоговейно светилось. Тихо было, сонно, оцепенело, и, казалось, келеица походила на янтарную лощеную склышечку, заключенную в темно-синий бархат. Слышно было лишь, как скреблась в запечье мышь, угрызая сухарь, да сухо потрескивала на столе свеча в шендане.
А душу-то бередило тоскою, худое чуяла она, прозревая сквозь ночные стены, как враги сатанинские окружили монастырский заплот, перекинулись через переграду, а сейчас торопливо точат лазы в монашеское житье. Боронися, крепко стой, великий старче, супротив орды!
В окне сблазнило белым, словно бы сплющилась о слюдяную шибку чья-то рогатая образина, оставила по себе запотелый следок. Никон встрепенулся, отчего-то обмирая ужасом и восторгом, скоро метнулся к передней стене, забыв усталь, задернул ширинку, запалил на столе второй стоячий шендан, не прижаливая свечей, и прислушался: в передызье кто-то вкрадчиво прохаживался по хрустящей промороженной отаве, крыкал, булькал горлом, пристанывал, словно изгонял из груди чью-то невинную жизнь, отворя загустевшую от страха кровь на ночную землю. Невидимый порчельник, он сейчас кровавым лезом проведет на стене разбойничий крест, той окаянной чертою разоймет насквозь бревенчатую чернецкую скрыню и незримо войдет в келью, такой чародей и проказник.
И воистину дверь в сенях со скрипом отворилась.
Никон, целуй вериги, обметанные седым медвежьим волосьем; обхвати пуще древко креста, чтоб не унес в тартары черный хвостатый вихорь! Это на людях ты патриарх и великий Отец, но в глухой северной келье ты лишь смятенный бессонный воин, осажденный всей подземной вражьей силою.
… А вошел Флавиан, улыбчивый, простоволосый, с зоревым лицом, будто испил в укромном месте с братией ковш браги; с пристуком поставил на стол горшок с ушным – горох с лапшою, чашку соленых огурцов да репы печеной и кружку квасу; из зепи на груди добыл однорушный ломоть ситного. Сказал, не замечая заметели в глазах Никона: «Ешь, батько! Самая то нажористая еда. Хотел икоркой постной потчевать, да ишь ли, не ко времени, богоданный». – «А ты никого не приметил у кельи, бродника какого? Вроде бы кто домогается нас?» – «То стрелец Петрушка помочился на угол, такой бесстыжий. Всю келью обос… Я его прочь погнал, озорника. Не нашел себе другого места… А что, батюшка, ино тебе худого помстилось от натока крови? Сам себя изводишь трудами не жалеючи, до изнеможения сил».
Никон не ответил на укоризны, опустился на лавку, раскорячил ноги, близоруко разглядывая расплющенные ступни с простудными розовыми шишками и с бахромкой отжившей кожи на пятках. Флавиан склонился, без просьбы вытер Никону ноги полотенишком и только взялся за лохань, чтобы выплеснуть воду у крыльца, как дверь в сени самовольно приотпахнулась, показалась кулижка вялой, в измороси, травы и горбушка насквозь пропеченного снега. Сквозняк протянул по клети, пламя свечей круто изогнулось, но не умерло, оживело вновь.
«Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» – раздалось из темени.
«Аминь», – облегченно отозвался Никон, уже готовно принимая незваных гостей; какие бы ни случились отчаянные разбойники и побродяжки, но для скитского всяк православный – посланец Божий.
Кто-то невидимый простудно бухнул в кулак, из ночи, опираясь на дорожную ключку, вытаился высокий пригорблый монах в дорожном кафтане и черном куколе на голове, низко надвинутом на глаза; наружу выставал лишь покляповатый вислый нос и клок сивой бороды. Провожал чернца ражий детина в рясе с чужого плеча и суконном колпаке; на плутоватом рябом лице угрозливо посверкивали крохотные свинцовые глазки… Экий варнак, право; ему бы шестопер в руки да в засеку на разбойную тропу.
Никон досадливо сморщился при виде поздних гостей; уж больно развязны они, как в свой дом вошли, незваные, и чужого тепла не берегут.
– Притужни дверцы-ти, милок! – прикрикнул. – Не лето на дворе.
– И Сын человеческий пришед на землю и не всяк узнает его, – буркнул, не подымая глаз, высокий пришелец, скинул в угол сеней дорожный кафтан. Его сотоварищ остался в сенях, притулившись к ободверине; от него ощутимо тянуло злом.
– Много бродит на земле схитников Христова имени. Не из тех ли и ты, поздний человек? Ну, да ворону не достичь широты орла. От скверны и падали пучит брюхо…
Гость дернулся на язвительные слова, сверкнул взглядом, длинная плешь налилась кровью.
– Братец, помоги сдернуть сапожишки, – попросил святой старец Флавиана. – Гостя потчуют не с языка, но из хлебной чашки… Ко времени подгадал, добрый человек. Как поглядел. Ушное-то простыло. Я и сам, признаться, изгваздался за день-то, живой мясинки во мне нет. Только думал похлебать чего, да ноги растянуть до часов, а ишь ли, Господь-то и спросылал во трапезу дорогого гостенька. Гляжу, издалека претеся? От кого бежите иль кого догоняете, милые?..
Многословьем Никон запирал в себе тоску и тревогу; давно ли едва приплелся с трудов в монастырь, но сердце-то пело Лазаря, и скитское уединение чудилось давножданным раем, а царева немилость – Господевой наградою. Но за стенами-то монастыря, оказывается, дожидались пустые заботы и долгая бестолочь.
Флавиан сдернул бахильцы, поставил на засторонок печи для просушки, помог размотать сопревшие онучи, подлил в лохань горячей воды. Гость сидел в забытьи, откинувшись головою к стене, призамглив мрелые опустевшие глаза; нижняя губа вяло опала, видны были желтые, стертые, еще крепкие зубы с хищными клычками; белоснежная борода стекала витыми косицами вдоль брыльев, словно бы ее скручивали на горячий гвоздь. Никон с пристрастностью обыскивал лицо пришлеца взглядом и внушал себе, что никогда не знавал его… Богомольник ли запоздалый по весне приперся? иль по нужде болезный человек стоптал сапожишки, чтобы просить у Господа здоровья? иль притащился несчастный грешник в тьмутаракань, чтобы сбросить с души смрадное и наполнить грудь покаянием?
– Не чинися, страдник. Дай монаху исполнить завещанное послушание…
Никон пересел на низенькую скамейку, Флавиан подтащил лохань к гостю; тот дернулся поначалу, как ошпаренный, но тут же и поборол смущение, опустил плюсны в воду, и какая-то спесивость и презрение вдруг проступили на его обличье… Оле, Никон! сколько же всяких православных ног перевидал ты на своем веку, обихаживая грецкой губкою, споласкивая с них тяжкую пыль дорог и земную усталость, чтобы душа утихла: изнеженных, барских с узловатыми от жирной ествы и обильного питья узкими плюснами; и шишковатых, в рубцах и шрамах, мужицких ступней; и мозолистых, в проказе, сбитых до язв и проточин, у нищих и калик перехожих. И всякий раз Исусова молитва, пожирающая бесконечно твое сердце, помогала не видеть бренную ветхую плоть, как бы затмевала от взгляда все эти вулканы и чирьи, плесень и гной, и гнутые по-орлиному, заплывшие перхотью ногти, и черные узлы немощных жил, где уже поселился смертный червь…
Никон увидал шестопалую, узкую, по-женски тонкую, как бы лакированную до блеска плюсну и вздрогнул; он едва приподнял глаза, уже верно зная, кто перед ним, брыластый и лупастый, с белой пролысиной шрама на горбинке носа и брезгливо опущенной толстой нижней губою… Но тут же овладел собой, спросил ровным, незамутненным голосом:
– А я думал, что за варнаки перекинулись через стену? Уж давно вас заприметил и все ждал. Не зря же лезли, верно? Ты что, еще не помер, нечестивый?
– Укуси, коли не веришь, – гость взбурлил ногою воду в шайке.
– Живой, бесенок… Для тебя что, и смерти нет? Слышал, слышал, как на Суне-реке у меня под боком чертей тешил, содомит поганый, под иудову пяту православных сбивал.
– Успокойся… Будет брюзжать-то. Чай, не помнишь, что не простой человек пред тобою. С мудрым я мудрый, с князьями – князь, с простыми – простой, а с моими недругами рассудит меня сабля…
– Но давал же ты, нечестивец, причащаться сушеным детским сердчишком? Сколько слухов про то ходило…
– Не верь басням, патриарх. Где-то чихнуло еще, а за версту уже молвят: де, помер. Пустой наш народец-то, легковерный. С тем и живет.