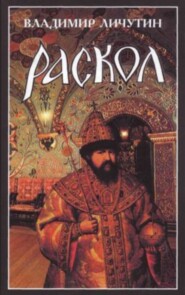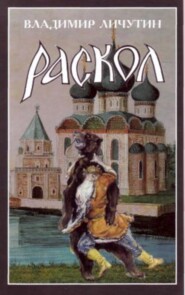По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Евтюхе-стрельцу тому в великую радость рыбалка. Не мешкая, столкнулись с прибегища, где много приткнулось мелкой озерной посуды, и скоро встали на лодке середка воды напротив Ферапонтова, где знакомый глинистый креж с отмелого места круто сваливается в омут; тут много живет полосатого, в чешуйчатой броне темно-зеленого окунья с ярко-красным, почти малиновым перьем; экие оковалки бродят – фунта на три, то и на четыре свесят. И как радостно сердце гудит, когда тянешь его из глубин, полоротого, а он, черт, еще и растопырит крылья, встопорщится весь, словно на конце лесы застряла щука на полпуда.
Сбросили рыбачки становые камни на ужищах с носа и кормы, выставили черемховые гибкие удилища. Хоть и безвременье, самая мерклая сонная жара в природе, но и окунь – рыба непостижная по норову, дерзкая и ненажористая, она часов не блюдет. Иной день в дикий клев за один упряг пестерь полный накидаешь, улов из лодки одному не вынести… И вот перьевые поплавки встали торчком. И самое тут время окститься на купола Рождественского собора и пооглядеться сначала вправо, куда уходит мелкая виска, затянутая кугою и желтыми кубышками, и жирным лопушьем, и видно издалека, как серебрится, играет искрою тонкая стрежь, уже закиданная до полуводы зеленым волосьем; за протокою в ольховнике едва сбрезживает неясным волнистым отражением озеро Паское. Потом и влево от Святых ворот переведи взгляд на пологую травянистую бережину, где табунятся мельницы с недвижными ныне махалками; сюда из ближних деревнюшек по осени мужики привезут новины, и от того молоченья достанется, и мучицы на монастырский каравай, и обдирок на пойло скотине, и всяких там круп на кашу братии. Да из дальних мест, с Ярославля и Вологды, притянут возами базарной ржички и пашеницы, и гречи, и толокна, чтобы не перемерли богомольники в сиротские лета.
По домашней стороне по заводям гольем бродят трудники с бреднями для вечерней выти, а на приглубой тоне тащат монахи долгий невод, споро окруживая лещевую яму, чтобы на потный сеностав настряпать работным постных рыбников со свежиною. А здесь, на воде, благодать; и комар не гнусит настырно, и жара не долит, хоть и ярится в небе солнышко; обвеивает лицо пряным тинным духом нагревшейся, забродившей воды; на противной стороне по хвощам и осотам, проваливаясь по лытки в грязь и отгоняя хвостами паутов, лениво бродит монастырское стадо; оттуда доносится глухое бренчанье коровьих шаркунцов, запах кострового дыма, всполошенный мык одуревших от оводья коров.
Господи, какая родная взору картина: чем-то вековечным, неумираемым вдруг трогает душу до слезы в очах, и сам ты, уже седатый, как псец, тут становишься на мгновение отроком, еще не отлученным от домашних. Евтюха стащил войлочный колпак, сунул под подушки, волос на голове свалялся в потный ком, лицо круглое, как сковородник, пропеченное жаром, нос сапожком обгорел до лохмотьев, глазки крохотные, с едва уловимой косинкою; воистину раб Божий, сама простота; ни семьи у него, ни прибытку, и одна доля у Евтюхи – иль под вражьей саблей пасть в бою, иль по старости и увечью закрыться в монастыре и покорно тянуть лямку на скотиньем дворе, полагая и эту жизнь за благодать…
Почасту взглядывая мельком на монаха, стрелец нарушил наконец молчание:
– Владыка… Ваше благополучие. Наше святейшество! Отступился бы ты от хозяина. Склони голову, набери в рот воды. Молчком да тишком и гору своротишь. А ты на медведя с дубьем. Испроломит голову. Належишься на лавке, моля смерти.
– Спаси тя, жалостный, что не потух сердцем… Ты, сынок, не бойся за меня; Господь не выдаст, свинья не съест. От таски да встряски шкура дубеет, ее и пикой не пронзить.
– Да ну?..
– А ты спробуй, – засмеялся Никон. – Хочешь, острогой пробей иль на рогатину.
– Да ну тебя… И без того до слез жалко… Вот и царь отступился от тебя.
– А ты не жалей. Я ведь патриарх. Это от земного царства можно отлучить. А Христов венец лишь могилка сымет. От мучений-то моя коруна лишь пуще сияет. Иль не видишь?
– Одно вижу, что на моих глазах сомлел, стал как дедко старый. Это вижу… Ты смирися, отче. Смиренным Бог дает благодать. Так меня в церкви учили, и тятька с маткой с детства вбивали. Де, смиренной с Царствием Небесным обручен… Другой раз и оторопь возьмет, как пристав тебя треплет. Будто куроптя, только перье летит… А еще толковали: де, Евтюшка, с сильным не борись, а с богатым не судись. С волками жить – по-волчьи выть. Христос на небеси знает, как рассудить. И всякому отпускает по грехам его, – хриплым баском наставлял Евтюха, каждую мысль решительно отрывая с языка, словно бы откусывал их от словесного черствого каравашка.
Двое подневольных, будто перед лицом Господа, поменялись кафедрою. Никон покорливо слушал, встряхивал волосатой головою, принакрытой скуфьею, не сводя взгляда с уды. Поплавки смиренно лежали в белесоватом зеркальце воды меж рыжеватых листьев кубышек, их долгие стоянцы поддерживали на озерной глади широкую кулижку желтых бобошек, зазывисто радостных, как солнечный посев. Меж кувшинцев вдруг чередою, как бусы на невидимой снизке, всплывали с бульканьем гроздья пузырей, словно бы сама девица-русальница, уцепившись за становую веревку, подслушивала странный земной разговор. Сторож и пленник толковали с какой-то скрытой печалью, будто друзьяки, иль сродники, иль арестанты, окованные единой цепью.
… Да и кто вам, беспутные, не давает разбежаться мирно по своим углам? Подите своею дорогою, и сама зыбкая марь, струящаяся над родимой пажитью, укутает в тихие колышащие пелена уже за ближним Цыпиным холмом и укроет навсегда.
И не понять водянице, что хоть вытолкай монаха в шею из монастырских стен, даже сунь в руки котомку с подорожниками и кожаные уледи и укажи прямой путик, но и тогда Никон не побежит из застенки, ибо здесь, в юзах и теснотах, будто и низринутый со стулки, он всё одно патриарх, мученик, Отец отцев; а укрывшись за первым дорожным отвилком, он станет лишь несчастным бегунком и вором, и всяк уже может гнать погонею и вязать его.
– Опарыши у тебя негодящи, толковщик. Худо за делом смотришь, – вдруг пробрюзжал Никон. – Мало скверну квасил иль на припек пустил. Окунье и то нос воротит.
Никону надоело глазеть на застывший поплавок, да и солнце смаривало, и на озерине стало душно монаху, как в сенной копешке. И не успел Евтюшка ответить, как Никон перекинулся на иное, словно бы в голове у монаха шла сбойчатая борьба и он никак не мог остановиться на одной мысли.
– А вот сорвусь сейчас и побегу. Тебя с лодки в озеро, а меня ищи-свищи…
– Да не побежишь ты, – ухмыльнулся Евтюшка и отчаянно зевнул.
– А если вдруг?.. – поддразнивал Никон.
– Расчету нет…
– Ну а если… Ссек бы мне головизну с плеч?
– Кабы да кабы, то выросли бы в роте грибы… А и ссек бы! И што? – Евтюшка наклонился, опустил ладонь в парную воду, глядя задумчиво, как снуют меж пальцев серебристые бесстрашные мальки. – Только не побежишь ведь.
Евтюшке страшно было своего пригрубого тона, но заносчивостью голоса подавлялся почтительный страх и так думалось, что в лодке пред тобою сидит ровня.
– И верно… Не спробуешь, не поймешь… Вот так век свой прокукуешь, и невдомек, зачем жил? Вот ты, Евтюшка, скажи, зачем живешь?
– Не моего ума дело. Господу Богу виднее, раз попустил, – буркнул стрелец, не отымая взгляда с воды. – Зачем мне голову ломать? Все живет; закоим-то и мне, дураку, жить…
Никон вдруг оборвал разговор, деловито смотал лесу, вытянул в лодку якорный камень, уже обвитый шелковистой донной тиной. И Евтюха поднял из глубины кормовой груз, думая, что узник намерился плыть назад, в монастырь. Но Никон стал пробовать озеро черемховым удилищем, чтобы изведать дно. Гундел себе под нос, не объясняя стрельцу задуманное: «Эх, Евтюшка, бобылья твоя голова… Человек на земле живет для племени, а грешный монах для Господа. Вот вбили меня в суземок, думают власти: де, потеряюсь тут навсегда, испротухну и позабудут все. Де, как и не было. Де, исшает древняя головушка, порастет быльем, и тогда антихристовы затейки станут для них Божьим промыслом… А тут я из могилки и выкурну: ах вы, курощупы, кыш от матери церкви! Или зря страдал?.. Разоставлю всюду памятки по себе, понасажаю на всякой горке, на каждой кочке оветные кресты, чтобы не сблудил мир. – Никон ухмыльнулся, рассветился лицом и показался Евтюхе доброрадным состоятельным мужиком, у кого дом – полная чаша и дитешонок сам-десять по лавкам. Дуб мореный, заморелый, такого и палицей не сокрушить. Правда, лицом вот батька сбела, будто капустный лист, мало вольного воздуху достает.
И вдруг Евтюшка завлажнел глазами и понял, что любит святителя неискоренимой любовью. – Раб искренний… Нагрузи на себя жернов послушания, и тогда душа станет мягше воска, и евангельские заповеди высекутся в ней неистребимо, как скрижали на архиерейской мантии… Смотри же, сынок. Озеро без острова, будто лужа, как глаз с бельмом, что плоть без души. Пото и роюсь в воде палкою, что задумал остров ставить». – «Да ну?.. Осатанел ты, батько, от безделья, вот и примстилось». – «Вот те и ну… Однажды в море студеном на камени диком, зовомом Кий-остров, спасся я, грешный, Божьим изволом, и там крест оветный поставил, а после и монастырь… Спросил я тебя, воин, для чего живешь на свете? Отвечу: для родни и Родины живешь… А иначе закоим и рождаться?..»
Когда выволакивали лодку в берег, взявшись за уключины, Никон вроде бы случайно приклонил лицо к Евтюшке и спросил полушепотом: «Коли нужда прижмет, поможешь ли своему владыке?»
Евтюшка придирчиво посмотрел на монаха, с усилием напрягши косенькие глазки, чтобы собрать их в прямой взгляд; темные зеницы стали, как порошины.
И смолчал.
* * *
На удивление не перечил пристав Никоновой задумке. Без спору уступил настырному монаху.
… Ему бы, лешаку, в келье покаянные поклоны бить, просить у Всевышнего прощения за гордыню, и памятки слезные слать: де, смилуйся, царь-государь, смени гнев на милость, а он вот, черноризец, позабывши отеческое правило, лается ежедень, как пьяный бурлак, и заводит свары, отчего монастырь стонет, утратив прежний покой.
И это святитель, коего мы за Христа чтили? Никчемный, никошной человечишко, дьявольскими затейками всползший на Отеческий стул, да скоро и грянувший наземь, как языческий болван.
… Но странные всполошливые вести идут из Москвы: де, вселенские патриархи, опомнясь, бьют челом русскому царю и просят Никона к себе в папы, чтобы тот над всем православным миром стал головой. А тогда, ведая гневную, скорую на расправу руку Никона, жди такой немилости!.. Ой-ой, страшно представить.
И решил полуполковник: пусть заточник рвет жилы в пустом деле, мотает сопли на рукав, затейник, коли сам себе ярмо без нужды сыскал да на шею и вздел. Но приставил к Никону сторожу из двух стрельцов: одного у польца, где каменье ломали, а другого, чтоб неотступно зазирал.
И стал Никон с братией своей добровольной, что в ссылку за ним сошли – Памвой и Варлаамом, Маркеллом и Мардарием, Виссарионом и Флавианом, – камни в крошнях таскать. А камня того самородного возле Ферапонтова россыпи; его не сеют и не пашут, сам растет. У каждого крохотного польца, чищенки иль лесовой кулижки, выпестованной с ногтей, навалены гряды кругляка, и розового банного, зовомого дресвою, и синего угарного, и серого полевого с цветными жилами; да вдоль-то озера по берегу покоятся от веку лещадные плиты, вросшие в землю, уже замоховевшие: дроби их зубилом и кувалдою, и много наберется каменного крошева. И в мочажине под ногою вдруг блеснет крохотный сиреневый потный бочок валуна, и, вызволяя его из грязи, вдруг выползет на белый свет такой одинец, будто бычья туша, словно с неба упал однажды и огруз по маковицу. Вот и в бору мха-ягеля отковырни с пясть, да и там объявится сизая, как бы отлитая из чугуна, подкладка, точно вся северная сторона диким каменьем вымощена до самого нутряного пылающего сердца, где и вывариваются они… Знать, Господь наслал на поморцев такого дива, чтобы они, убиваясь над трудной землею, так умиряли своенравную плоть свою, так пригнетали ее, чтобы однажды душа засияла, как жемчужный окатыш в прохладной перламутровой постели. Не отсюда ли по Руси и присловье: де, трудись, милый, не покладая рук, и жизнь твоя незаметно пролетит.
Камень в крошнях таскали к берегу, грузили в шитик, а после плыли в облюбованное Никоном место и ссыпали в озеро напротив монастыря. И Евтюшка, стрелец, рад был услужить хоть тем, что пригребает кормовым веслом: пусть и невеликое, но подспорье, не нахлебник монахам.
Глава третья
У всякого слуха своя правда и свои ноги. Давно ли к приставу Наумову ближние притянули тайную весть: де, царь опальному мирволит. А на Петров пост и гости из престольной…
Монахи свое трудное послушание вели, маялись под полдневным солнышком, аки мураши, волочили каменье в шитик, и уже до трапезы оставалось с полчаса, когда в облаке дорожной пыли вымчала к бревенчатому мостку через ручей ямская государева служба, окруженная верховыми стрельцами. Избушка, запряженная в тройку, наглухо запечатанная кожаным фартуком, была желтой от песчаного праха, словно зашпаклевана густо яичным желтком, и в слюдяное оконце едва ли что пробивалось снаружи. Бедные путешествующие, какого страху наберутся? Простоволосый извозчик, рубаха врасхрист, крутил над головою плетью, едва ли слыша мольбы седоков, скалил зубы и что-то выкрикивал несуразное, радый близкому постою и сытной естве. Да и сама-то езда его хмельно веселила, и варнак, увлекшись, мог бы и стоптать всякого, кто подвернется под слепой случай… Эко диво, не лезь под копыта, простодыра, жмись к обочине… Есть же на миру такие заядлые лошадники, кому в пылу гона чужая жизнь – копейка. Про таких еще говорят: дураком рожен, дураком и в гроб положен.
На этот случай Никон и тащился с кладью камня-дикаря, когда телега перебрала колесами бревна мостка и круто вильнула за угол монастыря, проскочила сушило и осадила у Святых ворот. С этакой неподъемной торбою пудов в шесть на горбине монах едва вывернулся из-под лошажьей груди, сбросил с плеч вичяные крошни. Тройка сбилась с намета, запаленно дыша, тут сгрудились и верховые; обгорелое лицо ездока жарко лоснилось, густо залепленное пылью; он, пожалуй, и не приметил дурной оказии. Не смял под телегу, не стер колесами, – и слава Богу, можно забыть. Споро добыл баклагу из-под ног, запрокинул, жадно ловя губами теплую струю; вздрагивали острый кадык и широкие лопатки под потной рубахой. На грязном лице промылись светленькие, срыжа усишки, подбородок с ложбинкой.
Никон опомнился и, не дав расчухаться ездовому, стащил того за шиворот с облучка, хорошенько встряхнул, кинул в натоптанную круговину возле Святых ворот. Вскричал, вспыхнув: «Ах ты, бесов сын! Глаза варом залепило? не видишь, куда летишь? Ведь к погибели своей скачешь, дурная башка. – Никон приподнял и еще встряхнул спесивца так, что посыпались путвицы с рубахи, и сама котыга расползлась, обнажилось жиловатое мокрое молодое тело. – Так и царя стопчешь, варнак! Я палача звать не стану, сам казню».
При этих словах парень вскочил гибко, по-кошачьи, готовый дать обороны, но увидал пред собою монаха в сажень ростом, с угрюмым прожигающим взглядом. Тут с оханьем, держась за грудь, вышел из кибитки стряпчий Иван Образцов и, еще не разглядев Никона, запричитывал жалобно: «Таскай его пуще, отец святый… волочи за кудри. Мало его тятька учил, прохвоста. Замучил он нас, право слово, решил, знать, со свету сжить. Ухаб ли, кочка ли, ему все одно…» «Недоросль, не научила мамка, дак научит каторжная лямка», – пригрозил Никон, остывая.
«Ну, ты прости его, отче…»
Стряпчий пригляделся к монаху и вдруг в закорелом старце с длинным кожаным фартуком поверх рясы и с дерюжною накидкою на плечах узнал опального. «Святитель, наше Благоденствие, – подскочил стряпчий с испугом и восторгом. – Все ли ладно, не зашиб ли ворина? Обошлося, и ладно. Мы его сами поучим, будет зубы на полке искать… Благослови, владыка, скудоумного раба твоего», – вдруг понизил себя государев посол.
«Целуй, коли признал, да не гребуешь», – процедил Никон, протянул лапищу, похожую на совок, каким соль в рогозницы сыплют, пригляделся к стряпчему. У Ивана Образцова льняные тонкие волосы невесомым облачком, как пух гагий, да и лицо пухлое же с чистыми карими глазами навыкате; был стряпчий видом, как младенец.
Тут как-то скоро братия сбилась у ворот, и послушники, да крестьяне монастырские, что оброчили с топорами на дворе. Ватажка стрельцов окружила скопку, вроде бы склонную к бунташеству. Полуполковник видел, как почтил царский посол опального монаха, и у него язык отнялся. Плетуха с каменьем так и лежала у ног Никона, вот с нею-то и надо было приканчивать дело. В монастыре ударило било, сзывали к трапезе. Несчастный возчик, куда-то порастеряв петушиный гонор свой, склонил повинную кудрявую голову, забитую дорожной пылью; словно посыпал теменцо прахом и раскаялся в содеянном. Никон насмешливо осмотрел проказника, велел грозно:
«Вот тебе послушание, прохвост… Таскай в шитик камни на горбине, да не ленись… Евтюшка, а ты присмотри за шалуном, чтобы не исхитрялся, да отмечай ходки… Штоб тридцать кладей… А станет волынить, ино плетью потчуй жеребца, иль сам на плечи вызнись, штоб потяже».