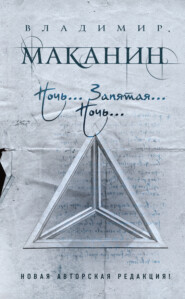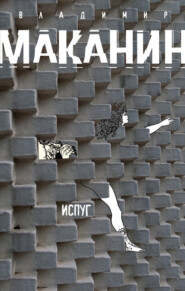По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Андеграунд, или Герой нашего времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, – он кивает; услышал.
– Просто слова... Болтаю. Становлюсь по-стариковски болтлив. Сейчас я рассуждаю о том, что удар – это суть мироздания.
С удачно подвернувшейся фразы я развивал ключевую мысль: удар – вовсе не агрессия и не боксерская перчатка, целящая в чужую рожу; нет и нет, Веня; мир удара бесконечно богат жизнью. Мир удара безбрежен и пластичен, удар и есть собственно жизнь, молния правит миром. (Молния правит! – сказал уже Гераклит.) Удары-откровения, когда человек вдруг прозревает. Когда прозревает последний – самый распоследний и пришибленный. Духовный прорыв, Веня. Тебе нужна мысль. Тебе необходимо взрывное напряжение духа...
Так, присев на больничной кровати, говорил я брату, старший младшему, стареющий стареющему, – мы словно бы в ту минуту вдвоем. (В палате тихо. Убогие улеглись: дремлют.) Венедикт Петрович слушает. Он всегда слушает и так щемяще-покорно смотрит, посматривает на меня – он не понимает, о чем я говорю. Но ему хорошо. Ему тепло. Когда родные говорят, понимать не обязательно.
Лишь на какую-то секунду былой интеллект оживает (секунда-другая, не больше), и вот Веня поднял глаза, с набегающей в уголках губ робкой улыбкой – набегать набегала, но на лице не возникла. (Улыбке страшно самой себя. Своей былой гордыни.)
С этой вот мягкой недоулыбкой Венедикт Петрович вновь глянул на меня и осторожно берет мою правую руку (ударную) – берет в свои. Проводит тонкими пальцами по жилам, по тяжелой моей кисти, как бы рисуя мою руку, – он в нее всматривается.
Потом тихо-тихо произносит:
– Господин-удар?.. – и тут же смирнеет – гасит ее, еще и не возникшую робкую улыбку.
Я рад ожившей его мысли. Хоть на миг. Хоть на один еще малый миг! Напрягись, Веня...
А меж тем замечание его из особых (замечаньице!), да и шип из его прежних, острый. Дескать, молния правила и будет править миром, но человек-то и править не правит, а подражает.
Человек не есть Удар, а всего лишь господин-удар, двуногий миф, слепок, отражение, образ, сведенный с горных круч себе на потребу, – нечто сочиненное, а значит, придуманное самим человеком себе же в цель и в угоду. (Как сразу он мой духовный взлет осадил. Указал место. Еще и прикнопил.) Недоговорил, а ведь по сути он сказал еще жестче: рукосуй. О моей жизни. Я слишком долго рассуждал и (пусть невольно) подсовывал ему себя в пример, вот и он тоже (пусть невольно) добавил к портрету. Штришок.
Пробудившаяся мысль была точна, но настолько же и жестка. Удивительно: едва ожил его полуспящий ум – на миг, на полмига! – как тотчас ожило и юношеское Венино высокомерие (высокая мера?). Я бы усомнился в качестве реплики, даже и факту ее существования не поверил бы, не услышь я ее в больничной тишине собственными ушами. Жил ли его гений всегда и только в сплаве с присущей ему надменностью. Неделимый вообще – неотделимый и от надменности. (С ней в сплаве и умер?)
Веня сам же и напуган (потрясен) своей ахнувшей смелостью, заморгал, заморгал глазами – и вжимает голову в плечи.
– Скажи что-нибудь еще, Веня.
Качает головой:
– Нет, нет...
– Веня. Ну, попытайся! Прошу тебя. Скажи еще.
– Нет...
Он не отпускает мою руку. Задержал. Прикосновение? Нет-нет, он вовсе не настаивает на антиномии: прикосновение – удар. Это уж слишком! (Он вовсе не сравнивает наши две жизни.)
Или предупреждает он меня – о чем?.. Из страха или, как мне кажется, из какого-то еще, опережающего этот страх чувства, Венедикт Петрович просто хочет прижать к своей щеке, к лицу мою руку – но (весь в сомнениях) столь пещерного проявления родства он тоже боится.
– Расскажи ты. Что-нибудь, – просит он. Он вдруг утомился общением.
Он устал, и, в сущности, он просит у меня простоты отношений. В конце концов, он больной человек – не умеет, не хочет уметь думать.
И тут, ослабляя нить, я тоже осознаю, что в прочтении жизней двух постаревших братьев не было и нет противостояния – нет и противополагающей, как в романах, правды. Смысл начинает не светить, а мерцать. Братья встречаются и видят друг друга. Через одно, через два десятилетия, да хоть через полжизни, но братья встречаются – вот правда. Веня (он отключился, устал) уже не в силах принять в себя никакую мысль, даже и самую примирительную. Стареющий Венедикт Петрович склоняет голову чуть набок, кося глазом (симптом – ищет упавшее на полу зерно). Седая голова. Год за годом. А зерна все нет. Я сижу рядом, жест родного человека, теперь я взял его руки в свои. У него удивительные руки. Заметив, что я разглядываю, он вдруг отнял их и прячет в рукава больничного халата, как озябший. Руки гения.
Похоже, что мой брат еще продолжает вяло (остаточные ассоциации) думать о руках, о прикосновении, потому что вдруг просит меня:
– Расскажи про поезд. Про тот поезд из Ташкента...
И улыбнулся:
– Про ту женщину. Смешно было – расскажи!
Я кивнул: ладно. Тоже вспомнил. Засмеялся. (Забавный случай.)
И действительно: поезд шел из Ташкента. Трое суток. А жара немыслимая – люди, чемоданы, ковры, в купе тесно и чудовищная духота. И вдруг восточная женщина. Красивая. (Рассказ о прикосновении, Веня! Я тоже, как видишь, не чужд...)
Красивая, она не подымала глаз. И прямо передо мной, сложенные на коленях, ее изящные руки с мягкими негремящими браслетами на запястьях. (Казалось, неяркие браслеты тоже не подымают глаз.) У меня было тряское нижнее место – у нее тоже. На заработках одичавший, полгода без женщин, я чуть с ума не сходил.
Раза два мы, кажется, с ней переглянулись, и вот, едва легли спать, я тихо протягивал руку к ней, а она осторожно – под столиком (вагонный откидной столик) – тянулась рукой в мою сторону. В купе ночь, только заоконные всполохи. Смуглая рука. Браслеточка. Едва-едва видна. Но так медленно, так робко ее рука продвигалась в мою сторону, ну, по сантиметру, ах, этот Восток, мучительный и томящий. Я уже изнемог. А ведь наградой станет лишь простенькое прикосновение. (Да и чего хотеть еще в вагонном купе, где четверо и где завтра уже с утра все мы начнем хлопотать и собирать вещи.) И как же медленно движется эта чувственная узкая ручонка. Поезд грохочет. В купе совсем темно. Вот наши пальцы соприкасаются, и в тот же миг какая-то маленькая многоногая среднеазиатская тварь переползает с моей руки на ее. Сидела, поди, на обшлаге моей легкой рубахи и долго думала, как бы ей перебраться на ту сторону, где больше пахло родной стороной. Дикий визг. Попутчица кричит не умолкая; все купе разбужено. Ее муж спрыгнул с верхней полки, врубил свет и яро глядит туда-сюда, а она все вытаскивает и выбирает из-под своего халатика фантом уже давно убежавшей мелкой твари. Муж (как и я, русский) бьет кулаком по щели, в которую шмыгнуло насекомое, – он так колотит, что слышится треск перегородки, и теперь с криками и воплями начинают возмущаться спящие в соседнем купе. Наконец ночь берет свое. Тихо. Муж положил на полу дыни. (Считается, что насекомые из всех щелей соберутся на пол, на запах.) Мы спим. Стук колес. Одуряюще пахнет дынями. В среднеазиатских дынях нет яркой наружной желтизны, потому что солнце вошло внутрь плода, там и затаилось, себя не выдаст: Восток!..
ИДУ, РУКИ В КАРМАНЫ...
Иду, руки в карманы; мой сторожевой проход по коридору как одомашненный ритуал.
И почему в таком случае не погреться в пути у чужого огонька? (Если нет своего.) Жигалины, 440-я, с мужиком мы даже приятельствуем – водочку пьем, поигрываем в шахматы. Виктор Ефремыч Жигалин всегда мне рад, да вот женка недолюбливает (и есть за что, за шуточки). Как-то нас запилила, мол, пора спать, поздно для шахмат – жена как жена, нормально, а Жигалин в шутку ей грозил: «Смотри, Елена. Сбегу!..» – то есть из дома сбежит. Я в задумчивости (позиция, видно, была сложна), уже занеся ладью над шахматной клеткой и колеблясь, сделать ли ход, тоже вякнул – ленивым голосом. Я и сам толком не слышал, что сказал: «Зачем тебе сбегать. Может, рано умрет. Вот наиграемся!..» Зато она слышала. Жаль. Жены подчас не понимают прелести случайно вырвавшегося словца.
Общажники в большинстве своем уже дома, вернулись с работы – и сейчас же за стол к тарелке, к супу с мяском, или к телевизору. Их кисловатый житейский дух, заполнивший жилье (я его чую), густ, смачен, напирает и уже выступил наружу в коридор на внешней стороне дверей, узнаваемый, как варфоломеевский крест. Им не до бытия: им надо подкормиться. (Новости ТВ – та же подкормка. Им бросают, как сено коровам.) В коридоре пусто. Иду. Руки в карманы. И тоже, клок сенца, могу подбросить своему «я» минуту изысканного удовольствия, ощутив себя коридорным философом-стражем, стерегущим как-никак их зажеванное бытие. Стерегущий сам по себе. Стерегущий вместо них и за них (но не для них).
457-я. Тоже ведь колебался – зайти ли?.. Но меня зазвали. Влад Алексеич Санин. Покурили с ним в коридоре, он с предвкушением говорит: давай, мол, посмотрим футбол-хоккей?
И меня потянуло: на старомодный их диван, на теплый, откинулся на спинку, и никаких дум, телевизор как пуп земли, а на экране оно движется. Неважно что. Оно. Но я еще колебался, как вдруг Влад Алексеич говорит – борщ, там, мол, уже борщом пахнет.
Вошли; и Влад Алексеич тут же, как хозяин, как с барского плеча, даю хоккей, даю и все остальное – жена, борщ на стол! гость у нас!.. Жена славная, милая, немного скривилась (я для нее как бомж). Но женщина себя уважает, хозяйка, деться некуда – и вот тарелка борща передо мной, горячий, дымится, чудо. Еще не ел, а уже доволен. (Есть такие собаки, удовлетворяются запахом – смотрят на еду, пасть не разинут.) Я сидел уже вполне счастливый. А из комнаты, что в глубине, появился с недовольным видом их зять. Ах ты, боже мой. Ну зачем он вышел? (Я вспомнил: и сам Влад Алексеич, и его жена от зятька зависят. Зять в одной из только-только появившихся коммерческих структур – зарабатывает! Он может купить квартиру, не общажную, а настоящую городскую. Но, конечно, может и не купить.) Он постоял с минуту. Зять как зять. Постоял свою затянувшуюся минуту и говорит медленно (не хамски, однако же со смешком) – гостей, мол, зовете! ну-ну!..
Я поднял от еды голову. (Я тоже умею медленно.)
– От тарелки борща еще никто не обеднел, – говорю, мол, известная истина.
Зять смолчал. И – в смежную комнату. Ушел.
Но вышла оттуда жена Влада Алексеича – и, слово за слово, кричать. (Кричит она вроде бы на него, на Влада, но кричит, конечно, на меня.) А я ем – я медленно: и борщ медленно, и картошку, и хлеб, ах, свежий!
Вошла дочь (у них две комнаты, ютятся, выплыла с сыном на руках). А пусть малыш немножко подышит в большой комнате (то есть в этой). «Ты бы, дочка, на улицу с мальчиком вышла...» – мать ей. «На улицу?! Да у меня обуви нет! Ничего нет! Не в чем мне на улицу!» – завопила дочка, вся в слезах, крик, брань. Теперь они обе разом на Влада Алексеича – мол, не умеет он жить, не умеет быть хозяином, не умеет ладить с зятем. Несут они Влада Алексеича, как с горы... Но ведь тоже понятно: ругают его, а слышно мне.
Я все же сказал. (Вновь медленно.)
– Дали бы поесть спокойно. Если уж налили борща.
Однако на меня ноль внимания, ноль слов. Несут бедного Влада – экий муж, ничего не нажил, не наработал! сам голь, с голью водится...
А Влад Алексеич, как я, – тоже спокоен: доел борщ, включил телевизор. (Все, как обещал. По полной программе.) Дочка даже взвилась – мол, мальчику, малышу сейчас бы нужна сказка, а не хоккей.
Я тихо-тихо ей возразил – мол, настоящий парнишка обойдется без сказки, а вот без хоккея нет.
Выскочил из-за двери зять. (Подслушивал, что ли?)
– Вы по какому праву вмешиваетесь в разговор?
– Просто слова... Болтаю. Становлюсь по-стариковски болтлив. Сейчас я рассуждаю о том, что удар – это суть мироздания.
С удачно подвернувшейся фразы я развивал ключевую мысль: удар – вовсе не агрессия и не боксерская перчатка, целящая в чужую рожу; нет и нет, Веня; мир удара бесконечно богат жизнью. Мир удара безбрежен и пластичен, удар и есть собственно жизнь, молния правит миром. (Молния правит! – сказал уже Гераклит.) Удары-откровения, когда человек вдруг прозревает. Когда прозревает последний – самый распоследний и пришибленный. Духовный прорыв, Веня. Тебе нужна мысль. Тебе необходимо взрывное напряжение духа...
Так, присев на больничной кровати, говорил я брату, старший младшему, стареющий стареющему, – мы словно бы в ту минуту вдвоем. (В палате тихо. Убогие улеглись: дремлют.) Венедикт Петрович слушает. Он всегда слушает и так щемяще-покорно смотрит, посматривает на меня – он не понимает, о чем я говорю. Но ему хорошо. Ему тепло. Когда родные говорят, понимать не обязательно.
Лишь на какую-то секунду былой интеллект оживает (секунда-другая, не больше), и вот Веня поднял глаза, с набегающей в уголках губ робкой улыбкой – набегать набегала, но на лице не возникла. (Улыбке страшно самой себя. Своей былой гордыни.)
С этой вот мягкой недоулыбкой Венедикт Петрович вновь глянул на меня и осторожно берет мою правую руку (ударную) – берет в свои. Проводит тонкими пальцами по жилам, по тяжелой моей кисти, как бы рисуя мою руку, – он в нее всматривается.
Потом тихо-тихо произносит:
– Господин-удар?.. – и тут же смирнеет – гасит ее, еще и не возникшую робкую улыбку.
Я рад ожившей его мысли. Хоть на миг. Хоть на один еще малый миг! Напрягись, Веня...
А меж тем замечание его из особых (замечаньице!), да и шип из его прежних, острый. Дескать, молния правила и будет править миром, но человек-то и править не правит, а подражает.
Человек не есть Удар, а всего лишь господин-удар, двуногий миф, слепок, отражение, образ, сведенный с горных круч себе на потребу, – нечто сочиненное, а значит, придуманное самим человеком себе же в цель и в угоду. (Как сразу он мой духовный взлет осадил. Указал место. Еще и прикнопил.) Недоговорил, а ведь по сути он сказал еще жестче: рукосуй. О моей жизни. Я слишком долго рассуждал и (пусть невольно) подсовывал ему себя в пример, вот и он тоже (пусть невольно) добавил к портрету. Штришок.
Пробудившаяся мысль была точна, но настолько же и жестка. Удивительно: едва ожил его полуспящий ум – на миг, на полмига! – как тотчас ожило и юношеское Венино высокомерие (высокая мера?). Я бы усомнился в качестве реплики, даже и факту ее существования не поверил бы, не услышь я ее в больничной тишине собственными ушами. Жил ли его гений всегда и только в сплаве с присущей ему надменностью. Неделимый вообще – неотделимый и от надменности. (С ней в сплаве и умер?)
Веня сам же и напуган (потрясен) своей ахнувшей смелостью, заморгал, заморгал глазами – и вжимает голову в плечи.
– Скажи что-нибудь еще, Веня.
Качает головой:
– Нет, нет...
– Веня. Ну, попытайся! Прошу тебя. Скажи еще.
– Нет...
Он не отпускает мою руку. Задержал. Прикосновение? Нет-нет, он вовсе не настаивает на антиномии: прикосновение – удар. Это уж слишком! (Он вовсе не сравнивает наши две жизни.)
Или предупреждает он меня – о чем?.. Из страха или, как мне кажется, из какого-то еще, опережающего этот страх чувства, Венедикт Петрович просто хочет прижать к своей щеке, к лицу мою руку – но (весь в сомнениях) столь пещерного проявления родства он тоже боится.
– Расскажи ты. Что-нибудь, – просит он. Он вдруг утомился общением.
Он устал, и, в сущности, он просит у меня простоты отношений. В конце концов, он больной человек – не умеет, не хочет уметь думать.
И тут, ослабляя нить, я тоже осознаю, что в прочтении жизней двух постаревших братьев не было и нет противостояния – нет и противополагающей, как в романах, правды. Смысл начинает не светить, а мерцать. Братья встречаются и видят друг друга. Через одно, через два десятилетия, да хоть через полжизни, но братья встречаются – вот правда. Веня (он отключился, устал) уже не в силах принять в себя никакую мысль, даже и самую примирительную. Стареющий Венедикт Петрович склоняет голову чуть набок, кося глазом (симптом – ищет упавшее на полу зерно). Седая голова. Год за годом. А зерна все нет. Я сижу рядом, жест родного человека, теперь я взял его руки в свои. У него удивительные руки. Заметив, что я разглядываю, он вдруг отнял их и прячет в рукава больничного халата, как озябший. Руки гения.
Похоже, что мой брат еще продолжает вяло (остаточные ассоциации) думать о руках, о прикосновении, потому что вдруг просит меня:
– Расскажи про поезд. Про тот поезд из Ташкента...
И улыбнулся:
– Про ту женщину. Смешно было – расскажи!
Я кивнул: ладно. Тоже вспомнил. Засмеялся. (Забавный случай.)
И действительно: поезд шел из Ташкента. Трое суток. А жара немыслимая – люди, чемоданы, ковры, в купе тесно и чудовищная духота. И вдруг восточная женщина. Красивая. (Рассказ о прикосновении, Веня! Я тоже, как видишь, не чужд...)
Красивая, она не подымала глаз. И прямо передо мной, сложенные на коленях, ее изящные руки с мягкими негремящими браслетами на запястьях. (Казалось, неяркие браслеты тоже не подымают глаз.) У меня было тряское нижнее место – у нее тоже. На заработках одичавший, полгода без женщин, я чуть с ума не сходил.
Раза два мы, кажется, с ней переглянулись, и вот, едва легли спать, я тихо протягивал руку к ней, а она осторожно – под столиком (вагонный откидной столик) – тянулась рукой в мою сторону. В купе ночь, только заоконные всполохи. Смуглая рука. Браслеточка. Едва-едва видна. Но так медленно, так робко ее рука продвигалась в мою сторону, ну, по сантиметру, ах, этот Восток, мучительный и томящий. Я уже изнемог. А ведь наградой станет лишь простенькое прикосновение. (Да и чего хотеть еще в вагонном купе, где четверо и где завтра уже с утра все мы начнем хлопотать и собирать вещи.) И как же медленно движется эта чувственная узкая ручонка. Поезд грохочет. В купе совсем темно. Вот наши пальцы соприкасаются, и в тот же миг какая-то маленькая многоногая среднеазиатская тварь переползает с моей руки на ее. Сидела, поди, на обшлаге моей легкой рубахи и долго думала, как бы ей перебраться на ту сторону, где больше пахло родной стороной. Дикий визг. Попутчица кричит не умолкая; все купе разбужено. Ее муж спрыгнул с верхней полки, врубил свет и яро глядит туда-сюда, а она все вытаскивает и выбирает из-под своего халатика фантом уже давно убежавшей мелкой твари. Муж (как и я, русский) бьет кулаком по щели, в которую шмыгнуло насекомое, – он так колотит, что слышится треск перегородки, и теперь с криками и воплями начинают возмущаться спящие в соседнем купе. Наконец ночь берет свое. Тихо. Муж положил на полу дыни. (Считается, что насекомые из всех щелей соберутся на пол, на запах.) Мы спим. Стук колес. Одуряюще пахнет дынями. В среднеазиатских дынях нет яркой наружной желтизны, потому что солнце вошло внутрь плода, там и затаилось, себя не выдаст: Восток!..
ИДУ, РУКИ В КАРМАНЫ...
Иду, руки в карманы; мой сторожевой проход по коридору как одомашненный ритуал.
И почему в таком случае не погреться в пути у чужого огонька? (Если нет своего.) Жигалины, 440-я, с мужиком мы даже приятельствуем – водочку пьем, поигрываем в шахматы. Виктор Ефремыч Жигалин всегда мне рад, да вот женка недолюбливает (и есть за что, за шуточки). Как-то нас запилила, мол, пора спать, поздно для шахмат – жена как жена, нормально, а Жигалин в шутку ей грозил: «Смотри, Елена. Сбегу!..» – то есть из дома сбежит. Я в задумчивости (позиция, видно, была сложна), уже занеся ладью над шахматной клеткой и колеблясь, сделать ли ход, тоже вякнул – ленивым голосом. Я и сам толком не слышал, что сказал: «Зачем тебе сбегать. Может, рано умрет. Вот наиграемся!..» Зато она слышала. Жаль. Жены подчас не понимают прелести случайно вырвавшегося словца.
Общажники в большинстве своем уже дома, вернулись с работы – и сейчас же за стол к тарелке, к супу с мяском, или к телевизору. Их кисловатый житейский дух, заполнивший жилье (я его чую), густ, смачен, напирает и уже выступил наружу в коридор на внешней стороне дверей, узнаваемый, как варфоломеевский крест. Им не до бытия: им надо подкормиться. (Новости ТВ – та же подкормка. Им бросают, как сено коровам.) В коридоре пусто. Иду. Руки в карманы. И тоже, клок сенца, могу подбросить своему «я» минуту изысканного удовольствия, ощутив себя коридорным философом-стражем, стерегущим как-никак их зажеванное бытие. Стерегущий сам по себе. Стерегущий вместо них и за них (но не для них).
457-я. Тоже ведь колебался – зайти ли?.. Но меня зазвали. Влад Алексеич Санин. Покурили с ним в коридоре, он с предвкушением говорит: давай, мол, посмотрим футбол-хоккей?
И меня потянуло: на старомодный их диван, на теплый, откинулся на спинку, и никаких дум, телевизор как пуп земли, а на экране оно движется. Неважно что. Оно. Но я еще колебался, как вдруг Влад Алексеич говорит – борщ, там, мол, уже борщом пахнет.
Вошли; и Влад Алексеич тут же, как хозяин, как с барского плеча, даю хоккей, даю и все остальное – жена, борщ на стол! гость у нас!.. Жена славная, милая, немного скривилась (я для нее как бомж). Но женщина себя уважает, хозяйка, деться некуда – и вот тарелка борща передо мной, горячий, дымится, чудо. Еще не ел, а уже доволен. (Есть такие собаки, удовлетворяются запахом – смотрят на еду, пасть не разинут.) Я сидел уже вполне счастливый. А из комнаты, что в глубине, появился с недовольным видом их зять. Ах ты, боже мой. Ну зачем он вышел? (Я вспомнил: и сам Влад Алексеич, и его жена от зятька зависят. Зять в одной из только-только появившихся коммерческих структур – зарабатывает! Он может купить квартиру, не общажную, а настоящую городскую. Но, конечно, может и не купить.) Он постоял с минуту. Зять как зять. Постоял свою затянувшуюся минуту и говорит медленно (не хамски, однако же со смешком) – гостей, мол, зовете! ну-ну!..
Я поднял от еды голову. (Я тоже умею медленно.)
– От тарелки борща еще никто не обеднел, – говорю, мол, известная истина.
Зять смолчал. И – в смежную комнату. Ушел.
Но вышла оттуда жена Влада Алексеича – и, слово за слово, кричать. (Кричит она вроде бы на него, на Влада, но кричит, конечно, на меня.) А я ем – я медленно: и борщ медленно, и картошку, и хлеб, ах, свежий!
Вошла дочь (у них две комнаты, ютятся, выплыла с сыном на руках). А пусть малыш немножко подышит в большой комнате (то есть в этой). «Ты бы, дочка, на улицу с мальчиком вышла...» – мать ей. «На улицу?! Да у меня обуви нет! Ничего нет! Не в чем мне на улицу!» – завопила дочка, вся в слезах, крик, брань. Теперь они обе разом на Влада Алексеича – мол, не умеет он жить, не умеет быть хозяином, не умеет ладить с зятем. Несут они Влада Алексеича, как с горы... Но ведь тоже понятно: ругают его, а слышно мне.
Я все же сказал. (Вновь медленно.)
– Дали бы поесть спокойно. Если уж налили борща.
Однако на меня ноль внимания, ноль слов. Несут бедного Влада – экий муж, ничего не нажил, не наработал! сам голь, с голью водится...
А Влад Алексеич, как я, – тоже спокоен: доел борщ, включил телевизор. (Все, как обещал. По полной программе.) Дочка даже взвилась – мол, мальчику, малышу сейчас бы нужна сказка, а не хоккей.
Я тихо-тихо ей возразил – мол, настоящий парнишка обойдется без сказки, а вот без хоккея нет.
Выскочил из-за двери зять. (Подслушивал, что ли?)
– Вы по какому праву вмешиваетесь в разговор?