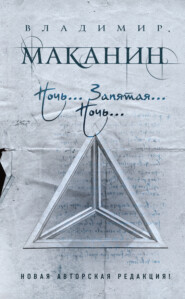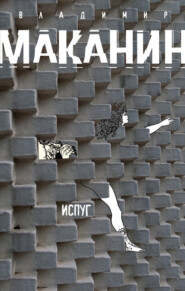По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Андеграунд, или Герой нашего времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Шеф!
Сонный поднял башку, включил настольную лампу... вот! вот оно, оружие! – глаза мои лихорадочно забегали, подыскивая, как попроще ухватить лампу. Схватить лампу, но не выдергивая шнур... короткий шнур, в низко расположенной розетке (может застрять... молодой успеет!).
Он повернул ко мне круглое лицо: мол, в чем дело?
– Помочиться хотел бы. Проведи в туалет.
Он сонно сказал:
– В углу ведро. Ссы сколько хочешь.
– Да и попить хочется. Пересохло все. Шеф!
Уже шел ко мне. Рванувшись напролом, я бы, конечно, сбил его с ног, приоткрой он нашу решетчато-железную дверь, но... но страж был начеку. О двери он и не думал. Он думал о другом – я вовремя отпрянул. Он ткнул кулаком прямо в квадратик двери, метя мне в глаз. Он хмыкнул, не попав. Ни слова не сказав, повернулся, ушел. «Пить хочу, сука! Пи-ить!» – завопил я, но круглолицый даже не оглянулся. Он вырубил свет. Он перешел в соседнюю комнату и плотно придавил дверь, чтоб не слышать, на случай если я буду бесноваться, вопить, кататься по полу – валяй, мужик! Валяй, старая гнида, как сказал один из них, когда я, запертый, стал было пинать ногой решетку.
Что еще я мог?.. Ничего. Разве что унять, остановить прыгающее сердце. Я стал всматриваться из моего забытого угла в черноту ночи, как в окололунный свет. (Искал свой черный квадрат. Я уже знал его магию.) Сердце не остановилось, но вот, стиснувшись, оно на чуть тормознулось... еще на чуть... и как свыше – как спасение – рождалось из ничего чувство останавливающихся минут. Приспоткнувшаяся жизнь. Не сама жизнь, а ее медлительная проза, ее будничная и великая тишиной бытийность. Вот она. Время перестало дергаться: потекло.
Возможно, в раздрызге первых импульсивных минут за решеткой как раз и отслаивались от моего «я» остатки давнего, уже шелушащегося тщеславия и моих амбициозных потуг. Не дамся, мол, им в руки. (Возможно, и остатки былого писательства.) Шелуха, человечья пыль, это она трепыхалась, подыскивая себе и заодно мне текст подостойней – чтоб по возможности и лицо сохранить, и животу уцелеть. Хитрован, сказал я себе. Расслабься. Вот ты. Вот твое тело. Вот твоя жизнь. Вот твое «я» – все на местах. Живи... Я с легким сердцем ощутил себя вне своих текстов, как червь вне земли, которой обязан. Ты теперь и есть – текст. Червь, ползающий сразу и вместе со своей почвой. Живи...
Нелепыми представились яростные прыжки из камеры наружу (едва он приоткроет железную дверь), удары настольной лампой по его голове, возня с розеткой, со шнуром, чтобы лампой размахнуться. Надуманное исчезло, как из дурного сна, хуже – из дурного фильма. Я остыл. (Возможно, резко упало давление.) Ни движения рукой. Ни случайной мысли. Как обнаруженный червь, я подергался (только и всего) и пытался уползти, забыв, что почва всегда и везде... Почва везде... Просто почва, земля, проза жизни – обычная человечья клетка с решетчатой дверью и с ненавязчивым ведром для мочи в углу. С обычными, лежащими вразброс в темноте пьяндыгами, которым надо проспаться, прийти в себя. И мне бы поспать. (Да, да, лечь – руку под голову.)
Проза жизни, надо признать, была сладка. Как и обещала, она мимоходом дарила человеку тянущийся и как бы вечный звук, прибаюкивая мне слух мягко-ритмичными колебаниями воздуха. Сказать попроще, то был негромкий храп. Мой. Я спал. Сама бытийность, спеленутая с уговаривающим сладким звуком, покачивала меня. Спал. С расстояния – как эхо – доносился из-за дверей свежий, молодой храп мента-дружинника, охранявшего нас. Он храпел, я вторил. Перекликались...
На миг проснувшись, я разглядел во тьме пьяндыгу, что обмочился со страха и теперь каким-то сложным образом «менял» белье – зябкий несчастный вид человека, пританцовывающего на одной ноге, а другой целящегося в брючину... Тьма, царила великолепная густая тьма. Засыпая, я продолжал чувствовать черный квадрат окна. И луну: ее не было. Но и невидная, она величаво висела в небе, где-то над крышей – высоко над зданием. Высоко...
Часть II
СЛУЧАЙ НА ВТОРОМ КУРСЕ
С какого пустячка началось, с любви! – то бишь с всеобщей вокруг него шумихи студентов-сокурсников, с их славословий. Рисунки расхватывали с пылу с жару. Их прикнопливали на стене. Еще и хвастались друг другу, показывая, у кого сколько. Его умение рисовать карандашом, углем, в минуту – в полминуты! – на любом жестком куске бумаги восхищало, как гениальная выходка, как фокус. Веня как чудо. Человек рисующий. То, что в рисунках было (не зрело, а сразу было) мастерство, подлинный авангард, мы тогда вовсе не понимали. Форма. Уголь на белом. Никто не понимал. Но зато все его любили. А он, Веня, еще и поддразнивал. (Не понимали, конечно, и науськанные на Веню следователи, что ж с них, служивых, хотеть?!) Много лет назад, уже тогда мой младший брат Веня мог сидеть за столом напротив следователя и дразнить, выводить из себя настолько, что не ему, а следователю хотелось его ударить в подбородок со смеющейся ямочкой. Дразнил словом, да и всем своим колким обликом. Следователь даже замахнулся. Каждый из следователей на Веню замахивался. Правда, не ударили.
Трижды занимались гебисты Веней в течение того года, недоумевали – студент как студент, открытая улыбка. Льдисто-голубые глаза. Вот разве что смеялся: мальчишка! И с той особой перчинкой в насмешке, которая тотчас к нему привлекала, ах, какое обаяние, ах, остроумие!.. А кто-то из студентов, несомненно их же курса, продолжал постукивать на Веню, троечник, скромный дурачок. (Запуганный и, вероятно, искренне пытавшийся пересказать, передать следователю атмосферу студенчества говорливых тех лет.) Трижды он доносил, а карикатуры оказались на поверку не Венины – были стилизованы под Венины рисунки, калька, только и всего. Талант не уберег автора, но талант и не подставил. И только на третий раз, как в жуткой сказке, улыбчивый Веня своим острым словцом довел наконец следователя не до крика и не до замаха рукой, а до бешенства, уже не яростного – до тихого иезуитского бешенства.
Глаза следователя, зрачковые точки его глаз, накалялись, белели – Веня рассказывал, что другой следователь, коллега, горбившийся над бумагами в той же комнате, и женщина в углу, строчившая на машинке, прислушивались, и оба нет-нет посмеивались про себя, а женщина еще и фыркала в кулак. Так уделывал Веня (мальчишка!) следователя своими ответами, а тот, весь в себе, продолжал его спрашивать.
В студенческой столовке, за гороховым супцом и за бледным компотом тех лет, я (постарше, уже с амбициями) рассуждал вслух:
– Веня. Этот следователь становится опасным.
Рассуждал я, сколько мог, важно – звучало, конечно, глупо:
– Слышишь, Веня... А что, если спровоцировать? А влепи-ка ему пощечину. Именно! Вроде как он тебя оскорбил. Ударь его первый!..
Веня только смеялся:
– Зачем?
Он пересказывал мне допросы. Добирая из стакана компот, весело (и сколько-то провинциально) мы обсуждали его случай, не мышеловку и не ловушку – дурную ямку тех глиняных, липких времен, в которую Веня нечаянно вдруг ступил. Молодые, мы не были испуганы. Мы даже впали в известное горделивое чувство от приобщения к опасной игре с властью. Оба фыркали, мол, КГБ студентом-младшекурсником интересуется, мол, надо же как! А я на высоких тонах все повторял ему свое, мол, не пора ли, Веня, сюжет повернуть? Пусть неделю-две камера, пусть побитая скула и вывихнутое плечо (пусть, Веня!), пусть крики, брань, донос в деканат, исключение, пятнадцать суток, что угодно, но не это затянувшееся липкое расследование. Эти их допросы, на удивление нешумные, мелкие, глиняные, никакие и в то же время чреватые, не ямка, Веня, а уже яма! Что угодно, но не это нагнетающееся сидение за столом лицом к лицу плюс Венина раз от разу насмешка, ядовитости которой сам Веня, кажется, не понимал. (Зато я понимал – попадало иногда рикошетом и хлестко.)
– Веня, удар – это философия. Удар – это наше все!
Говорилось так по молодости. (Просто с языка шло.) Я тогда и думать не думал, что удар – философия. Я был старший брат: я всего лишь говорил, стараясь ободрить и отвести от Вени беду. Но будущее, конечно, уже набегало. Я как бы знал. Я с счастливой легкостью предощущал пока еще отдаленный человеческий опыт (предощущал и уже примеривался – и, кто знает, накликивал себе самому).
Его опять вызывали. (Затягивали.) Вызывали беленькой бумажкой-повесткой, а то и прямо с лекции. Тоже ведь текучка: день за днем. На пробу следователь устраивал нелепые встречи с людьми, которых Веня мог бы знать или опознать: он, конечно, их не знал. Не знал тогдашней диссидентуры. (Был в стороне, молодой.) Он все смеялся, пересказывая мне подробности допросов: мол, только представь себе, рутина, беседа как беседа, все записывают, не бьют! что за времена!.. Смеялся, но и не знал, как было ему вырваться, выйти или хоть выползти из этих паутинных, уже не сталинских времен – как?
И впрямь, как знать, за пощечину следователю (за угрожающий взмах) Веню выгнали бы из института, пусть бы ненадолго его сослали, посадили: первые добрежневские годы, не лес валить, и отсидел бы! Важно было – прервать... При всей гениальности Веня не понимал, что он не столько в ловушке чьего-то доноса, сколько в ловушке своего собственного чувства превосходства над людьми: в ловушке своего «я». Любя брата, не идеализирую его – Веня был, бывал надменен. (Не по свойству души – по молодости. Вот оправдание.) Как в прошлые века всем известные молодые гении, так же и мой брат не щадил. Язвил, насмехался. А смех, если уж Веня над кем смеялся, делал сидящего напротив ничтожеством, вошью. Снести нельзя. Разумеется, не оправдывает гебистов. Но горько знать, то, что Веня перенес и что он не вынес, было не столько за его гениальные рисунки (и даже не за чьи-то стилизованные карикатуры), а за гордыню. Не море топит – лужа.
Пестуя свой дар и живя особняком, Веня мог проскочить. Рисунки были слишком хороши – нравясь там и тут, он мог стать неспешным утонченным портретистом. Или, что скорее всего, вырос бы подпольный художник-авангардист, и власть бы боялась его трогать руками. С ним бы считались. (Ну, запретили бы выставку-другую. Ну, разогнали бы с бульдозером экзальтированно стонущих экспертов и не пустили бы дважды в Италию!) С оглядом и задним числом мы, конечно, упрощаем, и экзистенциальная распутица художника вот уже сводится до развилки, до двух или трех дорог и до якобы твоего личного внятного выбора из них (когда на деле ты топтался в глиняном бездорожье). Но ведь и усложнять нехитро. Увы. Не был это бой, дуэль гения с системой – была перепалка с мелким, самолюбивым следователишкой. День за днем натягиваясь, нагнетаясь, продолжалось их сидение за столом – лицом к лицу, – как подумаешь, как тонка вилась ниточка! Наконец Веня пересолил – бледный, белый от злобы, играя скулами, следователь (не молодой, но и не стар был) вызвал охрану. Просто велел увести. Он не хотел побоев и шума, не хотел так уж сразу. Не хотел, чтобы вслед потянуло жалобным дымком, дымком слухов и жалоб, разговоры, рябь на воде. Не хотел, чтобы избитый Веня под шумок ускользнул – строптивого (и побитого) студента, хочешь не хочешь, могли под акт списать, передать в обычную больницу. (А там и другим следователям; ищи его после.)
Он так и сказал Вене:
– Мне неинтересно бить тебе морду. Мне интересно, чтобы ты ходил и ронял говно.
Он знал, что говорил. Следователи частенько блефуют, но этот знал. У него и точно имелся выбор будущего (для подследственного) – в пределах его личного решения в будущее уходили, ветвясь, накатанные дорожки, три или четыре, одна из них, кривая, как раз к белым халатам. (К лечению от инакомыслия – к полноправному вторжению врачей в твое «я».) Следователь знал, что написать и что дописать; а также что и где вполбуквы добавить. Он уготовил Вене путь, который запомнил от старших. Так что удивительного (то есть неожиданного) в процессе принудительного лечения в том случае не было. В один из ожидаемых врачами моментов их больной (Веня) не смог справиться с химией в крови и с ее нацеленной интервенцией в мозг. Мозг Вени не отключался – он лишь включался невпопад, не управлял, не значил, отчего четыре недели кряду кал из больного (из моего брата) извергался неожиданно и самопроизвольно. Так и было. Целый месяц. Дорожка привела. Следователь знал, что обещал.
Ему стало интересно. Человек, если задеть, любопытен. Но, скорее всего, и тут причина могла быть не в мстительном интересе, а в том, что дослеживание Вени входило в его обязанности; работа. Так или иначе следователь посетил Веню в больнице. Зашел в его палату, в белом халате. Хорошо выбритый, негромкий. Сидел возле Вени. Спросил:
– Ну, как дела?.. Роняешь говно?
Подавленный препаратами Веня уже не был ни остроумным, ни дерзким (второй месяц; симптом – пыль в мозгах).
– ...Ну? что ты здесь мне скажешь?
Сквозь толщу «пыли», забившей сознание, Веня с усилием думал – Веня поворочал тяжелым языком, ответил:
– Здесь тоже. Здесь жизнь.
Я – когда тем же вечером, в часы посещения, но попозже, сидел с Веней рядом – спросил:
– А он что?.. Ухмыльнулся, довольный?
Веня сказал – нет, следователь согласился, да, мол, здесь тоже жизнь: живи.
* * *
Врач, фигура интеллигентная, входил, возможно, в моду, а шприц так удобно заменял слишком созвучные в нашем прошлом (слишком шумные) выстрел в затылок и лесоповал. За допросное время Веню лишь однажды побили – в машине. Разбили ему лицо, сломали два зуба, все в кровь, непрофессионально. Они его всего лишь сопровождали, в машине тесно, а все они, включая Веню, были в пальто, зима. Он быстро довел их, он их достал. Он мог достать кого угодно и с какими угодно кулаками, дело не в молодой отваге – просто надменное львиное сердце. Веня издевался над их плохонькой одеждой, мол, зима, и что ж вас, сук, не ценят, ай-ай-ай. Или, мол, еще не заслужили, троечники? не с чужого ли плеча одежонка?.. Один из них ударил его по яйцам, ребром ладони. Больно, должно быть. Но тогда и Веня (все еще смеясь – а он реагировал тоже тотчас) плюнул нападавшему в лицо.
– Тогда они потеряли интерес к яйцам и взялись за мое лицо, – рассказывал он и пробовал насвистывать, без двух зубов с левой стороны.
Бездвухзубый, Веня и был привезен. Сопровождавшие, едва из машины, торопили, толчками подгоняли к дверям, где следователь, а Веня, так ценивший прикосновение (и не терпевший прикосновений чужих), выкрикивал им:
– Я сам. Я сам!..
* * *
А кое-кто из студентов уже усваивал поползший, пущенный слушок: предполагали (с оговорками, но ведь предполагали), что нет дыма без огня и что Веня теперь уже сам зачастил на доверительные беседы – такой блестящий и ведь талантливый!
Потому и приболел, потому, мол, и свихнулся парень, что на допросах уже пил чаек и мало-помалу стал разговорчив со следователем, наследил. Когда пустят слух, человек бессилен, это известно. Перемигивались и рассуждали, шуршали в ельнике, не пойманные на слове. Люди неблагодарны, это ведь тоже известно. Еще и свиньи. Тем более молодые. Тем более если любили.
Сонный поднял башку, включил настольную лампу... вот! вот оно, оружие! – глаза мои лихорадочно забегали, подыскивая, как попроще ухватить лампу. Схватить лампу, но не выдергивая шнур... короткий шнур, в низко расположенной розетке (может застрять... молодой успеет!).
Он повернул ко мне круглое лицо: мол, в чем дело?
– Помочиться хотел бы. Проведи в туалет.
Он сонно сказал:
– В углу ведро. Ссы сколько хочешь.
– Да и попить хочется. Пересохло все. Шеф!
Уже шел ко мне. Рванувшись напролом, я бы, конечно, сбил его с ног, приоткрой он нашу решетчато-железную дверь, но... но страж был начеку. О двери он и не думал. Он думал о другом – я вовремя отпрянул. Он ткнул кулаком прямо в квадратик двери, метя мне в глаз. Он хмыкнул, не попав. Ни слова не сказав, повернулся, ушел. «Пить хочу, сука! Пи-ить!» – завопил я, но круглолицый даже не оглянулся. Он вырубил свет. Он перешел в соседнюю комнату и плотно придавил дверь, чтоб не слышать, на случай если я буду бесноваться, вопить, кататься по полу – валяй, мужик! Валяй, старая гнида, как сказал один из них, когда я, запертый, стал было пинать ногой решетку.
Что еще я мог?.. Ничего. Разве что унять, остановить прыгающее сердце. Я стал всматриваться из моего забытого угла в черноту ночи, как в окололунный свет. (Искал свой черный квадрат. Я уже знал его магию.) Сердце не остановилось, но вот, стиснувшись, оно на чуть тормознулось... еще на чуть... и как свыше – как спасение – рождалось из ничего чувство останавливающихся минут. Приспоткнувшаяся жизнь. Не сама жизнь, а ее медлительная проза, ее будничная и великая тишиной бытийность. Вот она. Время перестало дергаться: потекло.
Возможно, в раздрызге первых импульсивных минут за решеткой как раз и отслаивались от моего «я» остатки давнего, уже шелушащегося тщеславия и моих амбициозных потуг. Не дамся, мол, им в руки. (Возможно, и остатки былого писательства.) Шелуха, человечья пыль, это она трепыхалась, подыскивая себе и заодно мне текст подостойней – чтоб по возможности и лицо сохранить, и животу уцелеть. Хитрован, сказал я себе. Расслабься. Вот ты. Вот твое тело. Вот твоя жизнь. Вот твое «я» – все на местах. Живи... Я с легким сердцем ощутил себя вне своих текстов, как червь вне земли, которой обязан. Ты теперь и есть – текст. Червь, ползающий сразу и вместе со своей почвой. Живи...
Нелепыми представились яростные прыжки из камеры наружу (едва он приоткроет железную дверь), удары настольной лампой по его голове, возня с розеткой, со шнуром, чтобы лампой размахнуться. Надуманное исчезло, как из дурного сна, хуже – из дурного фильма. Я остыл. (Возможно, резко упало давление.) Ни движения рукой. Ни случайной мысли. Как обнаруженный червь, я подергался (только и всего) и пытался уползти, забыв, что почва всегда и везде... Почва везде... Просто почва, земля, проза жизни – обычная человечья клетка с решетчатой дверью и с ненавязчивым ведром для мочи в углу. С обычными, лежащими вразброс в темноте пьяндыгами, которым надо проспаться, прийти в себя. И мне бы поспать. (Да, да, лечь – руку под голову.)
Проза жизни, надо признать, была сладка. Как и обещала, она мимоходом дарила человеку тянущийся и как бы вечный звук, прибаюкивая мне слух мягко-ритмичными колебаниями воздуха. Сказать попроще, то был негромкий храп. Мой. Я спал. Сама бытийность, спеленутая с уговаривающим сладким звуком, покачивала меня. Спал. С расстояния – как эхо – доносился из-за дверей свежий, молодой храп мента-дружинника, охранявшего нас. Он храпел, я вторил. Перекликались...
На миг проснувшись, я разглядел во тьме пьяндыгу, что обмочился со страха и теперь каким-то сложным образом «менял» белье – зябкий несчастный вид человека, пританцовывающего на одной ноге, а другой целящегося в брючину... Тьма, царила великолепная густая тьма. Засыпая, я продолжал чувствовать черный квадрат окна. И луну: ее не было. Но и невидная, она величаво висела в небе, где-то над крышей – высоко над зданием. Высоко...
Часть II
СЛУЧАЙ НА ВТОРОМ КУРСЕ
С какого пустячка началось, с любви! – то бишь с всеобщей вокруг него шумихи студентов-сокурсников, с их славословий. Рисунки расхватывали с пылу с жару. Их прикнопливали на стене. Еще и хвастались друг другу, показывая, у кого сколько. Его умение рисовать карандашом, углем, в минуту – в полминуты! – на любом жестком куске бумаги восхищало, как гениальная выходка, как фокус. Веня как чудо. Человек рисующий. То, что в рисунках было (не зрело, а сразу было) мастерство, подлинный авангард, мы тогда вовсе не понимали. Форма. Уголь на белом. Никто не понимал. Но зато все его любили. А он, Веня, еще и поддразнивал. (Не понимали, конечно, и науськанные на Веню следователи, что ж с них, служивых, хотеть?!) Много лет назад, уже тогда мой младший брат Веня мог сидеть за столом напротив следователя и дразнить, выводить из себя настолько, что не ему, а следователю хотелось его ударить в подбородок со смеющейся ямочкой. Дразнил словом, да и всем своим колким обликом. Следователь даже замахнулся. Каждый из следователей на Веню замахивался. Правда, не ударили.
Трижды занимались гебисты Веней в течение того года, недоумевали – студент как студент, открытая улыбка. Льдисто-голубые глаза. Вот разве что смеялся: мальчишка! И с той особой перчинкой в насмешке, которая тотчас к нему привлекала, ах, какое обаяние, ах, остроумие!.. А кто-то из студентов, несомненно их же курса, продолжал постукивать на Веню, троечник, скромный дурачок. (Запуганный и, вероятно, искренне пытавшийся пересказать, передать следователю атмосферу студенчества говорливых тех лет.) Трижды он доносил, а карикатуры оказались на поверку не Венины – были стилизованы под Венины рисунки, калька, только и всего. Талант не уберег автора, но талант и не подставил. И только на третий раз, как в жуткой сказке, улыбчивый Веня своим острым словцом довел наконец следователя не до крика и не до замаха рукой, а до бешенства, уже не яростного – до тихого иезуитского бешенства.
Глаза следователя, зрачковые точки его глаз, накалялись, белели – Веня рассказывал, что другой следователь, коллега, горбившийся над бумагами в той же комнате, и женщина в углу, строчившая на машинке, прислушивались, и оба нет-нет посмеивались про себя, а женщина еще и фыркала в кулак. Так уделывал Веня (мальчишка!) следователя своими ответами, а тот, весь в себе, продолжал его спрашивать.
В студенческой столовке, за гороховым супцом и за бледным компотом тех лет, я (постарше, уже с амбициями) рассуждал вслух:
– Веня. Этот следователь становится опасным.
Рассуждал я, сколько мог, важно – звучало, конечно, глупо:
– Слышишь, Веня... А что, если спровоцировать? А влепи-ка ему пощечину. Именно! Вроде как он тебя оскорбил. Ударь его первый!..
Веня только смеялся:
– Зачем?
Он пересказывал мне допросы. Добирая из стакана компот, весело (и сколько-то провинциально) мы обсуждали его случай, не мышеловку и не ловушку – дурную ямку тех глиняных, липких времен, в которую Веня нечаянно вдруг ступил. Молодые, мы не были испуганы. Мы даже впали в известное горделивое чувство от приобщения к опасной игре с властью. Оба фыркали, мол, КГБ студентом-младшекурсником интересуется, мол, надо же как! А я на высоких тонах все повторял ему свое, мол, не пора ли, Веня, сюжет повернуть? Пусть неделю-две камера, пусть побитая скула и вывихнутое плечо (пусть, Веня!), пусть крики, брань, донос в деканат, исключение, пятнадцать суток, что угодно, но не это затянувшееся липкое расследование. Эти их допросы, на удивление нешумные, мелкие, глиняные, никакие и в то же время чреватые, не ямка, Веня, а уже яма! Что угодно, но не это нагнетающееся сидение за столом лицом к лицу плюс Венина раз от разу насмешка, ядовитости которой сам Веня, кажется, не понимал. (Зато я понимал – попадало иногда рикошетом и хлестко.)
– Веня, удар – это философия. Удар – это наше все!
Говорилось так по молодости. (Просто с языка шло.) Я тогда и думать не думал, что удар – философия. Я был старший брат: я всего лишь говорил, стараясь ободрить и отвести от Вени беду. Но будущее, конечно, уже набегало. Я как бы знал. Я с счастливой легкостью предощущал пока еще отдаленный человеческий опыт (предощущал и уже примеривался – и, кто знает, накликивал себе самому).
Его опять вызывали. (Затягивали.) Вызывали беленькой бумажкой-повесткой, а то и прямо с лекции. Тоже ведь текучка: день за днем. На пробу следователь устраивал нелепые встречи с людьми, которых Веня мог бы знать или опознать: он, конечно, их не знал. Не знал тогдашней диссидентуры. (Был в стороне, молодой.) Он все смеялся, пересказывая мне подробности допросов: мол, только представь себе, рутина, беседа как беседа, все записывают, не бьют! что за времена!.. Смеялся, но и не знал, как было ему вырваться, выйти или хоть выползти из этих паутинных, уже не сталинских времен – как?
И впрямь, как знать, за пощечину следователю (за угрожающий взмах) Веню выгнали бы из института, пусть бы ненадолго его сослали, посадили: первые добрежневские годы, не лес валить, и отсидел бы! Важно было – прервать... При всей гениальности Веня не понимал, что он не столько в ловушке чьего-то доноса, сколько в ловушке своего собственного чувства превосходства над людьми: в ловушке своего «я». Любя брата, не идеализирую его – Веня был, бывал надменен. (Не по свойству души – по молодости. Вот оправдание.) Как в прошлые века всем известные молодые гении, так же и мой брат не щадил. Язвил, насмехался. А смех, если уж Веня над кем смеялся, делал сидящего напротив ничтожеством, вошью. Снести нельзя. Разумеется, не оправдывает гебистов. Но горько знать, то, что Веня перенес и что он не вынес, было не столько за его гениальные рисунки (и даже не за чьи-то стилизованные карикатуры), а за гордыню. Не море топит – лужа.
Пестуя свой дар и живя особняком, Веня мог проскочить. Рисунки были слишком хороши – нравясь там и тут, он мог стать неспешным утонченным портретистом. Или, что скорее всего, вырос бы подпольный художник-авангардист, и власть бы боялась его трогать руками. С ним бы считались. (Ну, запретили бы выставку-другую. Ну, разогнали бы с бульдозером экзальтированно стонущих экспертов и не пустили бы дважды в Италию!) С оглядом и задним числом мы, конечно, упрощаем, и экзистенциальная распутица художника вот уже сводится до развилки, до двух или трех дорог и до якобы твоего личного внятного выбора из них (когда на деле ты топтался в глиняном бездорожье). Но ведь и усложнять нехитро. Увы. Не был это бой, дуэль гения с системой – была перепалка с мелким, самолюбивым следователишкой. День за днем натягиваясь, нагнетаясь, продолжалось их сидение за столом – лицом к лицу, – как подумаешь, как тонка вилась ниточка! Наконец Веня пересолил – бледный, белый от злобы, играя скулами, следователь (не молодой, но и не стар был) вызвал охрану. Просто велел увести. Он не хотел побоев и шума, не хотел так уж сразу. Не хотел, чтобы вслед потянуло жалобным дымком, дымком слухов и жалоб, разговоры, рябь на воде. Не хотел, чтобы избитый Веня под шумок ускользнул – строптивого (и побитого) студента, хочешь не хочешь, могли под акт списать, передать в обычную больницу. (А там и другим следователям; ищи его после.)
Он так и сказал Вене:
– Мне неинтересно бить тебе морду. Мне интересно, чтобы ты ходил и ронял говно.
Он знал, что говорил. Следователи частенько блефуют, но этот знал. У него и точно имелся выбор будущего (для подследственного) – в пределах его личного решения в будущее уходили, ветвясь, накатанные дорожки, три или четыре, одна из них, кривая, как раз к белым халатам. (К лечению от инакомыслия – к полноправному вторжению врачей в твое «я».) Следователь знал, что написать и что дописать; а также что и где вполбуквы добавить. Он уготовил Вене путь, который запомнил от старших. Так что удивительного (то есть неожиданного) в процессе принудительного лечения в том случае не было. В один из ожидаемых врачами моментов их больной (Веня) не смог справиться с химией в крови и с ее нацеленной интервенцией в мозг. Мозг Вени не отключался – он лишь включался невпопад, не управлял, не значил, отчего четыре недели кряду кал из больного (из моего брата) извергался неожиданно и самопроизвольно. Так и было. Целый месяц. Дорожка привела. Следователь знал, что обещал.
Ему стало интересно. Человек, если задеть, любопытен. Но, скорее всего, и тут причина могла быть не в мстительном интересе, а в том, что дослеживание Вени входило в его обязанности; работа. Так или иначе следователь посетил Веню в больнице. Зашел в его палату, в белом халате. Хорошо выбритый, негромкий. Сидел возле Вени. Спросил:
– Ну, как дела?.. Роняешь говно?
Подавленный препаратами Веня уже не был ни остроумным, ни дерзким (второй месяц; симптом – пыль в мозгах).
– ...Ну? что ты здесь мне скажешь?
Сквозь толщу «пыли», забившей сознание, Веня с усилием думал – Веня поворочал тяжелым языком, ответил:
– Здесь тоже. Здесь жизнь.
Я – когда тем же вечером, в часы посещения, но попозже, сидел с Веней рядом – спросил:
– А он что?.. Ухмыльнулся, довольный?
Веня сказал – нет, следователь согласился, да, мол, здесь тоже жизнь: живи.
* * *
Врач, фигура интеллигентная, входил, возможно, в моду, а шприц так удобно заменял слишком созвучные в нашем прошлом (слишком шумные) выстрел в затылок и лесоповал. За допросное время Веню лишь однажды побили – в машине. Разбили ему лицо, сломали два зуба, все в кровь, непрофессионально. Они его всего лишь сопровождали, в машине тесно, а все они, включая Веню, были в пальто, зима. Он быстро довел их, он их достал. Он мог достать кого угодно и с какими угодно кулаками, дело не в молодой отваге – просто надменное львиное сердце. Веня издевался над их плохонькой одеждой, мол, зима, и что ж вас, сук, не ценят, ай-ай-ай. Или, мол, еще не заслужили, троечники? не с чужого ли плеча одежонка?.. Один из них ударил его по яйцам, ребром ладони. Больно, должно быть. Но тогда и Веня (все еще смеясь – а он реагировал тоже тотчас) плюнул нападавшему в лицо.
– Тогда они потеряли интерес к яйцам и взялись за мое лицо, – рассказывал он и пробовал насвистывать, без двух зубов с левой стороны.
Бездвухзубый, Веня и был привезен. Сопровождавшие, едва из машины, торопили, толчками подгоняли к дверям, где следователь, а Веня, так ценивший прикосновение (и не терпевший прикосновений чужих), выкрикивал им:
– Я сам. Я сам!..
* * *
А кое-кто из студентов уже усваивал поползший, пущенный слушок: предполагали (с оговорками, но ведь предполагали), что нет дыма без огня и что Веня теперь уже сам зачастил на доверительные беседы – такой блестящий и ведь талантливый!
Потому и приболел, потому, мол, и свихнулся парень, что на допросах уже пил чаек и мало-помалу стал разговорчив со следователем, наследил. Когда пустят слух, человек бессилен, это известно. Перемигивались и рассуждали, шуршали в ельнике, не пойманные на слове. Люди неблагодарны, это ведь тоже известно. Еще и свиньи. Тем более молодые. Тем более если любили.