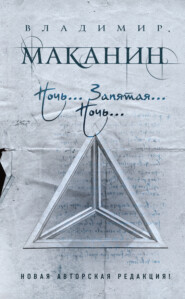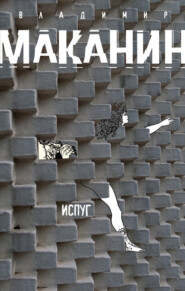По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Андеграунд, или Герой нашего времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все ближе к гнезду сенокос.
Та-та-та... —
повторял я по памяти слова Вероники. (Плохо помню, меняю слова, но дорого само присутствие ее интонации – ее опосредованное участие в моем сегодняшнем чувстве.) Как раз в те дни мне впервые предложили посторожить квартиру богатые люди. Нет, не Соболевы. Жильцы с юго-западной стороны дома – как писателю предложили, прослышали. (Как говорится, слава его ширилась и росла.) И конечно, кое-кто из общажников и лимита крыла «К» хотели, чтобы на радостях я поставил им выпивку. (Обмывон.) Весело получилось. Я забавно рассказывал, как поехал к Веронике и как вместо нее пообщался за пивом с карликом, нет-нет и косившимся на мой левый ботинок.
Я ее помнил, но не более того; и никакая боль уже не болела.
Жатва.
Все ближе к гнезду человек.
И кружат, и кружат... <над срезом?> пшеницы —
две птицы.
Кажется, так. Хоть что-то помню.
Оказывается, ее обругали в какой-то газетенке, мол, демократка, по телевизору выступает, а сама обеими руками хапает! – и деньги, мол, и квартира, и мебель прямиком из Финляндии. Другая газетенка тут же перепечатала. (Кто ни лает, а ветер носит.) Ахи-охи! Вот дурочка. На что ты годна, моя девочка, если из-за такой мелочевки срыв?.. Она стояла прямо передо мной. (Нашла-таки, постучала, я ей открыл, как раз сторожил у Лялиных, первая из юго-западных доверенных мне квартир.) Мутно на меня глядя (уже выпила), буркнула:
– Дай денег.
Я чуть не рехнулся. Онемел. Как в былые времена. Она, Вероника А., только-только с телеэкрана, говорит мне, люмпену, агэшному писателю без копейки:
– Дай денег. Мне надо на бутылку.
А если промедлю или не так скажу, вмиг рванется и убежит к кому-то еще. Окажется на виду. (И на слуху.) Я полез в карман (и сделал полшага вперед, не поднимая на нее глаз). Полез в другой карман (тоже будто бы в поисках денег) и сотворил еще полшага; расстояние сократилось – хвать за руку. Втащил в комнату. Все в порядке, отсюда ни на волос! В холодильнике нашлась бутылка, не моя, Лялиных (вдруг увидел водку – я к водке могу месяц не притронуться, если чужая; могу просто забыть). Но тут я влил в Вероничку чуть ли не всю бутылку. (Не всю, я тоже, конечно, пил.) Напоил. Еще и пива плеснул, чтобы ее сморить. Уснула...
Четыре дня и четыре ночи жила она у меня, никуда не показываясь. На второй день было полегче, мы уже пили бормотный портвейн, мой, дешевый (на водку, честно сказать, и денег не было). Пили помаленьку и – говорили, говорили – удивлялись тому, как долго не виделись, кипятильник, наш чаек, в стаканах заваривали, она нет-нет и принималась плакать.
Я выполнил в те дни несколько ее суетных дел.
В основном ездил в тихо умиравший (но не враждебный демократам) Совет и отвозил-привозил бумаги. Копеечные разрешения на типовых бланках. Я передавал их Виссарионову, от каждой бумаги карлик был в полном восторге. Все это, он считал, были победы!.. Кроме того, я должен был поехать с тем же Виссарионовым, чтобы обследовать как сторонний свидетель новую Вероникину квартиру (в связи с газетенкой?!). Тоже, вероятно, одна из побед. Подумать только, как и чем заканчиваются споры о переустройстве мира.
Печальноглазый карлик подготовил акт, после чего мы выпили по пиву (он поставил!). Он сказал, что ждет комиссию с минуты на минуту: запер дверь, поторопил, и мы мигом, дружно обе бутылки опустошили. Заодно он мне порассказал, с какой Вероничка теперь нравственной пробоиной.
– Как ранение, – пояснял карлик. (Это все о газетенке. Он сочувствовал.) – Как проникающее ранение.
Но на всякий случай я и ему не сказал, где Вероника сейчас. Бумаги передал – и ладно.
– Вы ведь поедете со мной? – спрашивал он. – Как нейтральный. – Мол, комиссии в целом он не доверяет. Нужен нейтрал. Я смеялся: впервые в жизни буду в роли проверяющего. Всю жизнь проверяли меня.
Карлик живо воспринял сказанное как намек (на духовное трудоустройство) – стал звать меня к ним, к демократам, место найдется. Мол, им такие нужны. Мол, я их человек. Смешная сценка. Если бы хоть под водку.
Комиссия пришла, двое из газеты и депутат; все вместе мы решали и решили – едем. Но Вероники дома нет. Вероника в отсутствии. И неизвестно, как ее искать. Ничего – едем к ней домой, не дожидаясь ее. Ключи возьмем в жэке. Еще и солиднее, лучше для проверки, что ее самой в квартире нет...
Все впятером сели в депутатскую машину, поехали, депутат за рулем.
До пива я пил еще и плодовый портвейн (дома), так что оказалось изрядно: от крутого дыхания стекла машины запотевали. Ехали как в молоке. Один из газетчиков (сидел впереди) ловко протирал стекло и умно говорил:
– У кого-то из нас пятерых очень сильное биополе.
Приехали в Вероникину квартирку (двухкомнатную, классический совмещенный санузел) и, как в хорошем, праведном финале фильма, ахнули. Чтобы у начальника, пусть маленького, в квартире за полтора года нашлись только стол, стулья, кушетка да книги! – это удар, это, конечно, произвело. (Я впервые был на ее кв. метрах. Узнал тотчас запах.) Но высматривал и вынюхивал я другое: следы мужского присутствия.
Телефона не было, она мне не солгала. Но кто-то к ней приходил и без звонков. Кой-какие приметы. Квартира всегда расскажет. Мужчина-то был, пахло.
* * *
Обида Веронички скопилась не только из-за того, что на нее возвели поклеп, оскорбили в газете и прочее. (Это – да. Но не только.) Ей прежде и больше всего не нравился свой кабинет, а в кабинете свой собственный звонкий голос, который, как она выразилась, пускал вдруг петуха и фальшивил. И болезненно не соответствовал ее представлениям (о самой себе).
Так что и обида, а лучше сказать досада, была на саму себя, какой она, пусть невольно, оказалась наверху. А ведь это, мол, совсем маленький верх, насест, но даже и на нем оказалось куда сложнее, чем на рисовавшейся ей когда-то главной испытующей развилке: честный – не честный. Плакала. Слова не давались, чтобы ей себя объяснить. Слова не могли (не хотели) ей помочь. А ведь пишущий человек. То-то, подумал я.
Пили чай. Я походил наугад по этажам, стрельнул заварки.
Один стакан лопнул (вдруг трещина) – у Лялиных был, конечно, и чайный сервиз, были и отдельные, на выбор, красивые чашки – был и сам чайник. Замечательный чайник с немецким свистком, трель. Но нам хотелось заваривать и пить чай как раз в стаканах, как тогда. Вероничка и вовсе не вставала с постели.
– Не могу, – говорила. – Хочу лежать, лежать, лежать...
Ни слова о том, как мы дальше. Она согласилась и осталась еще на три дня, чтобы совсем прийти в норму. И я ни лишнего слова. Встала утром – и бегом, бегом, стыдливо. Я сделал вид, что сплю. Уходила, и с плеч что-то стряхивает, как бы заразу, общажную нашу пыль, пыльцу – я подсмотрел в окно. Я вышел в коридор к окну, чтобы из окна подольше ее видеть. И видел, заспешила – бегом, бегом, села в троллейбус. То-то.
Вероничка оставила свою фотографию; фото удачное, она так считала. В этот раз, прячась у меня четверо суток и мало-помалу приходя в себя, спросила про фото, где же оно? А я признался, не стал придумывать – нет у меня. Да, потерял. Возможно, выбросил. Не ценю я эти глянцевые бумажки. Человек во мне, вот и все. Да и как бы я хранил, где? в старом чемодане с бельем?.. Когда-то в спешке, давай-давай, перебирался на новое место и некстати резким движением водрузил пишущую машинку на единственную фотографию мамы. Излом пришелся прямо на мамины глаза, беречь было уже нечего.
* * *
В метро уже за полночь (мой выход, моя подземная прогулка перед сном) я вглядывался в лица припозднившихся женщин, ища среди них с лицами, так сказать, пожалостней, понесчастней. Подтрунивал над собой, но искал. Нужна, мол, теперь не сама Вероника, пусть петушится дальше, а ее посильная замена – женщина, подходящая и похожая по обиженности. По степени обиженности.
Я вглядывался ненавязчиво, просто отмечал. Она?.. Нет. Она?.. Нет.
С лиц мой взгляд переползал на стены вагона. Так я впервые заметил рекламу в метро (там и тут она стала появляться, подстерегая рассеянный взгляд). Контрацепция. Аборт под наркозом. Все виды услуг. Призывность и нажим заставляли видеть, узнавать слова, но не вдумываться в саму надпись на подрагивающей стене метровагона. Защита от рэкета... Все виды охраны... Решетки. Противоугонность... – мир наполнялся не столько новыми делами, сколько новыми знаками. Гнусны не сами дела – их всплывшие знаки, вот что вне эстетики. Тот же типичный, знаковый андеграунд. (Подполье, шагнувшее наверх.) Возможно, таков окажусь и я, выйди я на свет. Нет уж. Не надо. Нарастающая (и царапающая меня) новизна жизни, вернее, каждодневное подчинение этой новизны моему «я» сделало меня когда-то пишущим человеком. Но вот прошло двадцать и больше лет, и мое «я» потребовало свободы от повестей и их сюжетов, неужто же само захотело быть и сюжетом и повестью?.. В былые-то времена я бы уже несомненно кинулся к пишущей машинке – вот ведь чудо во спасение! Сиди и тюкай пальцами по буквицам. (Чувство изойдет – зато придет текст.) Подполье, его соответствующая реклама как раз и подлавливают тех, кто вне текстов – одинок или вдруг брошен. Подлавливает замаскированная надежда. И говорит: бери, возьми – вот твоя гиперреальность, вот что такое мир людей в новой и свежо ожившей условности.
Я подсел-таки к плачущей. На пробу. В углу вагона она сидела и несколько киношно (раньше сказали бы «театрально») прижимала платочек к глазам. Я спросил – она испугалась. «Вам плохо?» – «Нет». Она тотчас и решительно отвернулась, оскорбилась. Решила, что я ловец пьяненьких. Но я и точно был в ту минуту ловец, хотя и в житейски высоком смысле. Я не искал женщины в метро, просто как проба. Как проба на предчувствие...
* * *
Я знал, что женщина для меня появится. И притом скоро.
Психологи любят уверять, что образы являются и как бы выпрыгивают к нам из нашего прошлого (к примеру, через сны, из снов – говорят они). Они и правы отчасти.
Конечно, если бы не противовес нашего прошлого (которым мы себя себе объясняем), мы бы попросту не удержали в себе ни одного сильного чувства. Мы бы просто распались. Нас бы разорвало.
Но почему бы не уравновесить прошлое будущим?
Почему бы не считать, что часть чувств (закодированных в образе) надвигается на нас как раз из будущего. Человек уже издалека слышит набегающее время, а сами образы будущего – как проносящиеся отдельные осколки, пули первых выстрелов.
И в этом приеме предчувствий будущего наше прошлое, я думаю, ни при чем. Мы свободны от прошлого. Мы чистый лист. Мы ловцы.
* * *
Каждый раз, когда я видел ее лицо (крупно) на экране, я вспоминал тонкую струйку вина, стекавшую по ее дрожащему, нежно очерченному подбородку. Я тотчас спохватывался и набирал из-под крана воду в бутылку (в чайник), чтобы полить оконные цветы. Тоже струйкой. В этом был наш с Вероникой черезэкранный контакт – наше общение. Наши, если угодно, длящиеся отношения. Стоило ли тогда писать изящные верлибры, чтобы теперь делить прилюдно деньги на нужды культуры? – я не задавался столь лобовым вопросом. Могло статься, что с экрана она, в сущности, тоже поливала в горшках чьи-то чужие цветочки.
Я только и узнавал о ней по ТВ. Не знаю даже, писала ли она стихи.
Она отправила два молодых дарования за границу, чтобы посмотрели мир. (Они тут же сбежали туда насовсем.)
Та-та-та... —
повторял я по памяти слова Вероники. (Плохо помню, меняю слова, но дорого само присутствие ее интонации – ее опосредованное участие в моем сегодняшнем чувстве.) Как раз в те дни мне впервые предложили посторожить квартиру богатые люди. Нет, не Соболевы. Жильцы с юго-западной стороны дома – как писателю предложили, прослышали. (Как говорится, слава его ширилась и росла.) И конечно, кое-кто из общажников и лимита крыла «К» хотели, чтобы на радостях я поставил им выпивку. (Обмывон.) Весело получилось. Я забавно рассказывал, как поехал к Веронике и как вместо нее пообщался за пивом с карликом, нет-нет и косившимся на мой левый ботинок.
Я ее помнил, но не более того; и никакая боль уже не болела.
Жатва.
Все ближе к гнезду человек.
И кружат, и кружат... <над срезом?> пшеницы —
две птицы.
Кажется, так. Хоть что-то помню.
Оказывается, ее обругали в какой-то газетенке, мол, демократка, по телевизору выступает, а сама обеими руками хапает! – и деньги, мол, и квартира, и мебель прямиком из Финляндии. Другая газетенка тут же перепечатала. (Кто ни лает, а ветер носит.) Ахи-охи! Вот дурочка. На что ты годна, моя девочка, если из-за такой мелочевки срыв?.. Она стояла прямо передо мной. (Нашла-таки, постучала, я ей открыл, как раз сторожил у Лялиных, первая из юго-западных доверенных мне квартир.) Мутно на меня глядя (уже выпила), буркнула:
– Дай денег.
Я чуть не рехнулся. Онемел. Как в былые времена. Она, Вероника А., только-только с телеэкрана, говорит мне, люмпену, агэшному писателю без копейки:
– Дай денег. Мне надо на бутылку.
А если промедлю или не так скажу, вмиг рванется и убежит к кому-то еще. Окажется на виду. (И на слуху.) Я полез в карман (и сделал полшага вперед, не поднимая на нее глаз). Полез в другой карман (тоже будто бы в поисках денег) и сотворил еще полшага; расстояние сократилось – хвать за руку. Втащил в комнату. Все в порядке, отсюда ни на волос! В холодильнике нашлась бутылка, не моя, Лялиных (вдруг увидел водку – я к водке могу месяц не притронуться, если чужая; могу просто забыть). Но тут я влил в Вероничку чуть ли не всю бутылку. (Не всю, я тоже, конечно, пил.) Напоил. Еще и пива плеснул, чтобы ее сморить. Уснула...
Четыре дня и четыре ночи жила она у меня, никуда не показываясь. На второй день было полегче, мы уже пили бормотный портвейн, мой, дешевый (на водку, честно сказать, и денег не было). Пили помаленьку и – говорили, говорили – удивлялись тому, как долго не виделись, кипятильник, наш чаек, в стаканах заваривали, она нет-нет и принималась плакать.
Я выполнил в те дни несколько ее суетных дел.
В основном ездил в тихо умиравший (но не враждебный демократам) Совет и отвозил-привозил бумаги. Копеечные разрешения на типовых бланках. Я передавал их Виссарионову, от каждой бумаги карлик был в полном восторге. Все это, он считал, были победы!.. Кроме того, я должен был поехать с тем же Виссарионовым, чтобы обследовать как сторонний свидетель новую Вероникину квартиру (в связи с газетенкой?!). Тоже, вероятно, одна из побед. Подумать только, как и чем заканчиваются споры о переустройстве мира.
Печальноглазый карлик подготовил акт, после чего мы выпили по пиву (он поставил!). Он сказал, что ждет комиссию с минуты на минуту: запер дверь, поторопил, и мы мигом, дружно обе бутылки опустошили. Заодно он мне порассказал, с какой Вероничка теперь нравственной пробоиной.
– Как ранение, – пояснял карлик. (Это все о газетенке. Он сочувствовал.) – Как проникающее ранение.
Но на всякий случай я и ему не сказал, где Вероника сейчас. Бумаги передал – и ладно.
– Вы ведь поедете со мной? – спрашивал он. – Как нейтральный. – Мол, комиссии в целом он не доверяет. Нужен нейтрал. Я смеялся: впервые в жизни буду в роли проверяющего. Всю жизнь проверяли меня.
Карлик живо воспринял сказанное как намек (на духовное трудоустройство) – стал звать меня к ним, к демократам, место найдется. Мол, им такие нужны. Мол, я их человек. Смешная сценка. Если бы хоть под водку.
Комиссия пришла, двое из газеты и депутат; все вместе мы решали и решили – едем. Но Вероники дома нет. Вероника в отсутствии. И неизвестно, как ее искать. Ничего – едем к ней домой, не дожидаясь ее. Ключи возьмем в жэке. Еще и солиднее, лучше для проверки, что ее самой в квартире нет...
Все впятером сели в депутатскую машину, поехали, депутат за рулем.
До пива я пил еще и плодовый портвейн (дома), так что оказалось изрядно: от крутого дыхания стекла машины запотевали. Ехали как в молоке. Один из газетчиков (сидел впереди) ловко протирал стекло и умно говорил:
– У кого-то из нас пятерых очень сильное биополе.
Приехали в Вероникину квартирку (двухкомнатную, классический совмещенный санузел) и, как в хорошем, праведном финале фильма, ахнули. Чтобы у начальника, пусть маленького, в квартире за полтора года нашлись только стол, стулья, кушетка да книги! – это удар, это, конечно, произвело. (Я впервые был на ее кв. метрах. Узнал тотчас запах.) Но высматривал и вынюхивал я другое: следы мужского присутствия.
Телефона не было, она мне не солгала. Но кто-то к ней приходил и без звонков. Кой-какие приметы. Квартира всегда расскажет. Мужчина-то был, пахло.
* * *
Обида Веронички скопилась не только из-за того, что на нее возвели поклеп, оскорбили в газете и прочее. (Это – да. Но не только.) Ей прежде и больше всего не нравился свой кабинет, а в кабинете свой собственный звонкий голос, который, как она выразилась, пускал вдруг петуха и фальшивил. И болезненно не соответствовал ее представлениям (о самой себе).
Так что и обида, а лучше сказать досада, была на саму себя, какой она, пусть невольно, оказалась наверху. А ведь это, мол, совсем маленький верх, насест, но даже и на нем оказалось куда сложнее, чем на рисовавшейся ей когда-то главной испытующей развилке: честный – не честный. Плакала. Слова не давались, чтобы ей себя объяснить. Слова не могли (не хотели) ей помочь. А ведь пишущий человек. То-то, подумал я.
Пили чай. Я походил наугад по этажам, стрельнул заварки.
Один стакан лопнул (вдруг трещина) – у Лялиных был, конечно, и чайный сервиз, были и отдельные, на выбор, красивые чашки – был и сам чайник. Замечательный чайник с немецким свистком, трель. Но нам хотелось заваривать и пить чай как раз в стаканах, как тогда. Вероничка и вовсе не вставала с постели.
– Не могу, – говорила. – Хочу лежать, лежать, лежать...
Ни слова о том, как мы дальше. Она согласилась и осталась еще на три дня, чтобы совсем прийти в норму. И я ни лишнего слова. Встала утром – и бегом, бегом, стыдливо. Я сделал вид, что сплю. Уходила, и с плеч что-то стряхивает, как бы заразу, общажную нашу пыль, пыльцу – я подсмотрел в окно. Я вышел в коридор к окну, чтобы из окна подольше ее видеть. И видел, заспешила – бегом, бегом, села в троллейбус. То-то.
Вероничка оставила свою фотографию; фото удачное, она так считала. В этот раз, прячась у меня четверо суток и мало-помалу приходя в себя, спросила про фото, где же оно? А я признался, не стал придумывать – нет у меня. Да, потерял. Возможно, выбросил. Не ценю я эти глянцевые бумажки. Человек во мне, вот и все. Да и как бы я хранил, где? в старом чемодане с бельем?.. Когда-то в спешке, давай-давай, перебирался на новое место и некстати резким движением водрузил пишущую машинку на единственную фотографию мамы. Излом пришелся прямо на мамины глаза, беречь было уже нечего.
* * *
В метро уже за полночь (мой выход, моя подземная прогулка перед сном) я вглядывался в лица припозднившихся женщин, ища среди них с лицами, так сказать, пожалостней, понесчастней. Подтрунивал над собой, но искал. Нужна, мол, теперь не сама Вероника, пусть петушится дальше, а ее посильная замена – женщина, подходящая и похожая по обиженности. По степени обиженности.
Я вглядывался ненавязчиво, просто отмечал. Она?.. Нет. Она?.. Нет.
С лиц мой взгляд переползал на стены вагона. Так я впервые заметил рекламу в метро (там и тут она стала появляться, подстерегая рассеянный взгляд). Контрацепция. Аборт под наркозом. Все виды услуг. Призывность и нажим заставляли видеть, узнавать слова, но не вдумываться в саму надпись на подрагивающей стене метровагона. Защита от рэкета... Все виды охраны... Решетки. Противоугонность... – мир наполнялся не столько новыми делами, сколько новыми знаками. Гнусны не сами дела – их всплывшие знаки, вот что вне эстетики. Тот же типичный, знаковый андеграунд. (Подполье, шагнувшее наверх.) Возможно, таков окажусь и я, выйди я на свет. Нет уж. Не надо. Нарастающая (и царапающая меня) новизна жизни, вернее, каждодневное подчинение этой новизны моему «я» сделало меня когда-то пишущим человеком. Но вот прошло двадцать и больше лет, и мое «я» потребовало свободы от повестей и их сюжетов, неужто же само захотело быть и сюжетом и повестью?.. В былые-то времена я бы уже несомненно кинулся к пишущей машинке – вот ведь чудо во спасение! Сиди и тюкай пальцами по буквицам. (Чувство изойдет – зато придет текст.) Подполье, его соответствующая реклама как раз и подлавливают тех, кто вне текстов – одинок или вдруг брошен. Подлавливает замаскированная надежда. И говорит: бери, возьми – вот твоя гиперреальность, вот что такое мир людей в новой и свежо ожившей условности.
Я подсел-таки к плачущей. На пробу. В углу вагона она сидела и несколько киношно (раньше сказали бы «театрально») прижимала платочек к глазам. Я спросил – она испугалась. «Вам плохо?» – «Нет». Она тотчас и решительно отвернулась, оскорбилась. Решила, что я ловец пьяненьких. Но я и точно был в ту минуту ловец, хотя и в житейски высоком смысле. Я не искал женщины в метро, просто как проба. Как проба на предчувствие...
* * *
Я знал, что женщина для меня появится. И притом скоро.
Психологи любят уверять, что образы являются и как бы выпрыгивают к нам из нашего прошлого (к примеру, через сны, из снов – говорят они). Они и правы отчасти.
Конечно, если бы не противовес нашего прошлого (которым мы себя себе объясняем), мы бы попросту не удержали в себе ни одного сильного чувства. Мы бы просто распались. Нас бы разорвало.
Но почему бы не уравновесить прошлое будущим?
Почему бы не считать, что часть чувств (закодированных в образе) надвигается на нас как раз из будущего. Человек уже издалека слышит набегающее время, а сами образы будущего – как проносящиеся отдельные осколки, пули первых выстрелов.
И в этом приеме предчувствий будущего наше прошлое, я думаю, ни при чем. Мы свободны от прошлого. Мы чистый лист. Мы ловцы.
* * *
Каждый раз, когда я видел ее лицо (крупно) на экране, я вспоминал тонкую струйку вина, стекавшую по ее дрожащему, нежно очерченному подбородку. Я тотчас спохватывался и набирал из-под крана воду в бутылку (в чайник), чтобы полить оконные цветы. Тоже струйкой. В этом был наш с Вероникой черезэкранный контакт – наше общение. Наши, если угодно, длящиеся отношения. Стоило ли тогда писать изящные верлибры, чтобы теперь делить прилюдно деньги на нужды культуры? – я не задавался столь лобовым вопросом. Могло статься, что с экрана она, в сущности, тоже поливала в горшках чьи-то чужие цветочки.
Я только и узнавал о ней по ТВ. Не знаю даже, писала ли она стихи.
Она отправила два молодых дарования за границу, чтобы посмотрели мир. (Они тут же сбежали туда насовсем.)