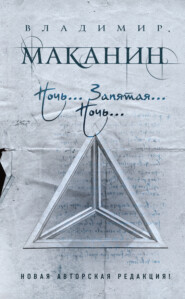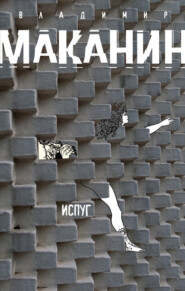По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Андеграунд, или Герой нашего времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Погаси, Петрович. Богом молю...
– Не смей! – завопил старик.
* * *
Мой нынешний дар в том, чтобы слышать, как через двери пахнут (сочатся) теплые, духовитые квадратные метры жилья и как слабо, увы, припахивает на них недолговечная, лет на семьдесят, человеческая субстанция. Квартиры и повороты то за угол, то в тупик превращают эту пахучую коридорно-квартирную реальность в сон, в кино, в цепкую иллюзию, в шахматный-клеточный мир – в любопытную и нестрашную гиперреальность. Как оказалось, больше человеку и не нужно: мне хватило. Вполне хватило этого мира коридоров, не нужны красоты Италии или Забайкальской Сибири, рослые домики города Нью-Йорка или что там еще. Мне и Москва-то не нужна. (Хотя я ценю ее полуночное пустеющее метро. И ее Веронику. Умненькая. Любила меня.)
Когда-то коридоры и их латунно занумерованные квартиры, и особенно их тихие двери, казались мне чреваты притаившимися женщинами. Полные женщины или худенькие. Красивые или не очень. Всюду они. За каждой тихой дверью. В коридор они вдруг выбегали, нет, они выпрыгивали: они являлись или же вдруг прятались. Их можно было внезапно увидеть, встретить. (Или же их надо было искать.) Затаившиеся в коридорной полутьме и, разумеется, ждущие любви женщины – мир тем самым был избыточно полон. Коридоры и женщины. Мужчины при них тоже мелькали, но были лишь фоном, бытовым сопровождением и подчас необходимой квартирной деталью, вроде стола, холодильника или сверкающей (иногда ржавенькой) ванны. Участвовали, и не больше.
Однако возраст и стаж сторожения (да и оценочность, душок времени) постепенно привели в коридорах и во мне к удивительной подмене. Подмена не окончательна, но она происходит: женщин мало-помалу, но все определеннее вытесняют в моем воображении их жилые квартиры. Понять мое, твое или его присутствие через жилье, а не через женщину – вот где теперь ток (течение) бытия.
Женщина словно бы пустила корни в свои собственные квадратные метры. Я их вижу. Я их (кв. метры) чувствую через стены и через двери: слышу их запахи. Вбираю и узнаю. Жилые пахучие метры, они и составляют теперь многоликое лицо мира.
Я сообразил, соотнес и подыскал сходное себе оправдание-объяснение: в конце концов, как сторож я вложил в эти метры заботу, личную жизнь. Я называю их просто – каве метры. Каждый день я движусь по коридорам, отчасти уже задействованный той посильной метафизикой, какую я им навязал. (Коридоры за образ не отвечают и сами по себе не виноваты. Обычные проходы по этажам.)
Полтора-два месяца буду жить у Соболевых, замечательная квартира в четыре комнаты, с большой ванной и с гигантским телевизором (я, правда, не люблю ни ТВ, ни полудрему в теплой воде). С телефоном. С книгами. Денег за пригляд платят крохи, но хорошей квартире я рад. Я ведь живу. Но, конечно, придерживаю и свое запасное место в пристройке дома – в крыле «К», где сменяют друг друга командировочные. Место плохонькое, однако всегдашнее: якорь в тине. Там у меня просто койка. К койке я креплю металлической цепкой, довольно крепкой, мою пишущую машинку. (Продев цепочку под каретку, чтобы не сперли.) Я не пишу. Я бросил. Но машинка, старая подружка (она еще югославка), придает мне некий статус. На деле и статуса не придает, ничего, ноль, просто память. Так у отловленного бомжа вдруг бывает в кармане зажеванный и засаленный, просроченный, давненько без фотографии, а все же паспорт.
Рублевы, Конобеевы, пьяницы Шутовы (вот ведь фамилии!), но зато теперь приглядываю и у богатых, у Соболевых – я, стало быть, сочетаю. Соболевы – это уже мой шаг в гору, капитал. Интеллектом и деньгами припахивают их крепкие, их пушистые кв. метры. И каким доверием!
– Петрович, – и укоризна в голосе Соболевых, этакая добрая, теплая их укоризна. – Петрович, ну пожалуйста! Ты же интеллигентный человек. Ты хоть не общайся с теми... – и жест рукой в сторону крыла «К».
– Боже сохрани! – восклицал я. Понять нетрудно: кому нужен сторож, пусть интеллигентный и пять раз честный, но который еще вчера выпивал с загульными командировочными?
Я на месте. Пришел. С некоторой торжественностью (в процессе перехода из комнаты в комнату) я включаю свет. Даю – самый яркий! И плюс расшториваю окна, изображая жизнь в квартире Соболевых – их присутствие для некоторых любителей чужого добра, интересующихся с улицы окнами. В сторожимой мной квартире я спать не обязан: только проверить вечером. Еще одну я пасу на седьмом – квартиру Разумовских.
По пути туда (возможно, простая инерция) я вновь нацелился к фельдшерице Татьяне Савельевне: в этой стороне (в этой сторонке) и квартирки победнее, и мужики куда попроще, похрипатее... Прежде чем постучать, вновь выглянул в окно: нет ли внизу грузовика? (Нет.) Надо бы все-таки иметь повод, чтобы будить женщину в час, близкий к ночи.
Пораненная рука – вот повод. (Уже заживала.) Я поддел струп ногтем, боль вспыхнула – какое-то время смотрел, как пузырится (несильно) кровь. Скажу, что задел.
Татьяна Савельевна помогала общажному люду и после работы – перевяжет, таблетку даст. Но к двенадцати ночи фельдшерица, разумеется, ворчала на приходящих: что за люди, надо же и честь знать!.. «Мы уже спииим» означало, что шофер у нее в постели. У него рейсы Москва – Ставрополь – Москва, а он спит! залежался! (Не потерял ли он, дальнобойщик, работу?) Ладно. Пусть поспят. (Я добр.) Карауля жилье Разумовских (почти рядом), я уже месяца три как с удовольствием навещал ее чистенькую квартиру. Я свел знакомство, когда травмированная левая рука вдруг пошла нарывами. Приходя на перевязку к ней домой (не таскаться в поликлинику), я заглядывал уже ежедневно, а ее муж, то бишь шофер, подзарабатывал в эти дни на юге большие деньги.
Раз, вернувшись внезапно, шофер нас застал, но не понял. Татьяна Савельевна как раз уже бинтовала (повезло) – к тому же шофер увидел мою травмированную руку, алиби на нынче, да и на будущее. За деньги она лечит мою лапу или из жалости, не знаю, как она ему объяснила.
Шофер что-то чувствует; и опечален, как мне кажется. Но я и он – мы ведь редко видимся. В другой раз он уже вернулся в явно неподходящий момент, Татьяне Савельевне пришлось срочным порядком поставить на стол нам бутылку водки, и мы с шофером довольно долго говорили о Горбачеве и Ельцине. К счастью, бутылка нашлась, а разливать по стаканам – это уже как трубка мира.
Я ценю не только ее уютные, теплые кв. метры, ценю ее тело. Некрасивая женщина, но с опьяняющим телом, временами я даже ее побаиваюсь (ее тела), то есть сдерживаюсь, веду счет. Как бы не инсульт. Однажды совсем забылся, увлекся, едва-едва отдышался после. Слава богу, медикаменты под рукой. Она прибрала их, припасла, когда еще были дешевы, – так она говорит. Я думаю, наворовала. Она не считала воровством, конечно. Ведь все было общее, наше. Но в последнее время ее характер портится. Тоже показатель. Возможно, кончаются медикаменты. А возврата к старым временам не предвидится.
Но уж какая есть, за то спасибо. Я благодарный человек и честный потребитель, мне хватает ее тела, ее лона и (особенно в первые минуты) ее светлой плотской радости. Ничего больше. Мы с ней даже не говорим. Одно-два слова скажем, но и те в пустоту и как бы винясь друг перед другом (мол, жаль, что умеем разговаривать) – и мелкими шажочками, скок-поскок, все ближе к постели. Ага! – все-таки вспомнил. Штрих. Когда Татьяна Савельевна смазывает йодом ранку, она вдруг дует на нее изо всех сил (дует, дует!) и спрашивает, просветленные глаза, словно она девочка, а мне годика полтора, самое большее – два:
– Не больно?.. Уже не больно?
И снова ласково дует.
Шофер нагрянул. Срочно появилась вновь на столе водка, мы выпивали. Дик. Небрит. И плюс новоприобретенная привычка вращать глазами. Казалось, он все думал о моей руке, когда же, мол, наконец вылечится. А я думал о ее теле, поддразнивая себя, мол, для старого андеграундного сердца можно бы женское тело и поскромнее, попроще. Не пожалеешь сердца, пожалеешь самого себя.
Он явился некстати и по времени, и в опасной (для нас) близости от постели, скок-поскок – я уже раздевался.
– ...Петрович. Оставайся у нас ночевать... Уже поздно. Ну, куда ты пойдешь! – заговорила, заспешила Татьяна Савельевна (я даже подумал – нет ли намека, мол, рано поутру шофер куда-то уедет. Но намека не было. Просто бабья доброта. И чуток волнения.)
Однако шофер сказал:
– Не. Надо вдвоем побыть. Соскучился я...
И выпроводил меня. (У него, мол, вторник-среда дома, отсып.)
Я вышел побродить вокруг ночной общаги. Подышать. Никакой тоски; не было даже ощущения неудачи, как бывало иногда в молодости. Ничего не было. Старый пес. (Вернусь ночевать к Соболевым. Почитаю.) Шел улицей и думал о теплом одеяле Татьяны Савельевны, о ее сочном сорокалетнем теле.
Меня едва не сбил автобус.
* * *
У Соболевых я варю себе замечательные каши. (Нет-нет и облизываю крупную ложку, каша пыхтит.) Варю я полную кастрюлю, крупы Соболевых мне раз и навсегда разрешены.
Каша попыхтит на малом огоньке, после чего я закутаю ее в одеяло – осторожно, ласково этак, я знаю, я умею. Каша будет жить, дышать, ждать меня в любой час дня. Могу уйти, пройтись по этажам. Коридоры...
* * *
Шофер за столом, Татьяна Савельевна с ним рядом, она ему как своя же рука, нога, как собственное ухо, вся ему доступна и больше, чем доступна, – привычна. Но, хочешь не хочешь, наша с ней близость тоже в ней что-то меняла, и ночь от ночи Татьяна Савельевна, к новизне чуткая, делалась и сама уже сколько-то иной. (В женщине это медленно, но неизбежно.) Шофер, только-только из рейса, пока свежий, тоже что-то новое чувствовал, – шофер переводил взгляд с нее на меня, и мало-помалу в нем буравилась мысль: мол, чего в жизни не бывает, перемены в бабе от времени или от присутствия козла? (Полагаю, он мысленно так меня окрестил, и я сто?ю сравнения, шастающий по этажам, стареющий и обросший. Правда, непохотлив я. Просто житейский, на подхвате образ. Не нами и не сегодня придуманный. Просто козел.)
Треугольник в наши дни так же естествен, как водка, бутылка на троих. Сижу напротив них: расслаблен, не напрягаюсь ничуть. Да и шофер то ли все думает, то ли не думает свою невнятную думу. Возможно, что в треугольнике (имею в виду не быт, а суть) уже давным-давно нет ни истерично-женского, ни дуэльно-драчливого напряжения трех его вершин. Кончилось. Славные предшествующие два-три века вычерпали и выели из треугольника весь вкус былой драматургии. (Можно жить, не спотыкаясь. Если не дурить.) Ночью я обнаружил грудь Татьяны Савельевны всю в страстных синяках, шофер только что уехал. Я тоже постарался в эту ночь, особенно любя другую ее грудь (случайно). Утром она стояла перед зеркалом, глядя на обе в сливовых цветах. Сказала, смеясь:
– Ну-у, разукрасили!
* * *
Ее тело узнается без подсказок. Ее чувственность нехитра, но выражена сильно; она хочет тебя так, а не иначе, не потому, что желание, а потому, что матерая хватка как вековая колея. Как запечатанный мед.
На столь хорошо проложенных путях однажды вдруг понимаешь, что в точно таких же движениях и в таких привычках ее имеет ее шофер. И – никакого треугольника. Я совпадаю с ним. Я вдруг узнаю (в себе) его живые подробности. Нет, не пугает, но ведь удивляет. Эта остро узнаваемая, но чужая радость – как повторение, почти подгляд. Моя рука движется, как его. Мой отдых такой же расслабленный, дремный, на спине. Притом что во мне вертятся его сонные желания, затребованные ее женским присутствием рядом, ее телом. Его шоферское хриплое першащее горло, взгляд, кашель, сигареты, я даже как-то купил те самые сигареты, которые он курит.
Совсем удивительно: поутру у меня болят руки от его тяжелой автомобильной баранки. (Никакого переносного смысла – по-настоящему ломит руки, тянет.) Ночью снилась полуосвещенная ночная дорога, тряско, ухаб, и я вдруг сделал резкий поворот, бросая грузовик вправо, к проселку, чтобы не въехать на поломанный мост.
Он привез оружие с Кавказа... мол, пригодится, когда за рулем днем и ночью. Заработал хорошие деньги, купил ствол, патроны, а чечня из палаток подстерегла и отняла.
Меня задело.
– Что ж не постоял за себя?
Он засмеялся:
– Жизнь дороже.
* * *
Ночь летняя, теплая, четыре утра. Я у окна. От полноты счастья высунулся из окна фельдшерицы (она в постели) – выставил на волю голову, голые плечи. Курю. Ночной кайф. Отчасти я уже выглядывал в сереньком рассвете корпус знакомого грузовика. Шофер иной раз прибывает раненько утром. Возможно, и уйти мне надо бы сейчас же, поутру. Но расслабился. Курю. Минутное счастье полезно. (Как момент истины.)
Вижу у палаток – внизу – бревнышко (я так и подумал в рассветной мгле, что лежит, забыли, выкатилось укороченное бревно). Оказалось, труп. Под окнами – меж кленов – выскакивала на свет фонарей узкая асфальтовая дорожка, вдоль нее три палатки с торгующими в дневное время кавказцами. Они там ссорились, выясняли, делили сферы влияния. Они и мир установили сами – помимо милиции. Но, как видно, не бескровно. И не бесследно. (Бревнышко выкатилось на фонарный свет.) Возможно, я и увидел его первый. Но, конечно, и бровью не повел. Лежит и лежит. А я курю. Ночь. Тихо.
Утром – позже, когда уже шел в булочную, – я его вновь увидел: возле той же палатки. Мертвый кавказец. Застреленный. (Его сдвинули к краю асфальта, чтоб было пройти, перекатили, лежит на спине.) Моросит дождь. Газетка, что на его лице, все сползает, съезжает и все темнеет от мелких дождевых капель. Ждут милицию. Слухи: чечены (владельцы левого киоска) враждуют с кавказцами двух других киосков, уже объединившихся для отпора. Одного пристрелили, двое подраненных, один в реанимации: ночные счеты.