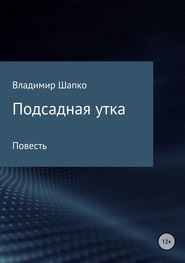По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Настольная памятка по редактированию замужних женщин и книг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Плачущую, уводил от могилы. Остальные уже с надетыми шапками теснились в аллее, поторапливались с кладбища. Впереди поминки. В лучшем ресторане города. Деловитый муж Маши (последний) громко внушал Екатерине точно глухой: «Обязательно останьтесь на поминки, Екатерина Петровна. Обязательно. Я вас привезу в ресторан и отвезу потом, куда скажете. Обязательно!» Яшумова деловитый муж не воспринимал никак – просто социальный работник при женщине-инвалиде. Держит под руку. Стопроцентный волонтёр.
Откуда-то вынырнул Иванов-Дубинин. Прямо к Яшумову. Крепко давнул ладонь. Точно виделись вчера. А не двадцать лет прошло. Всё такой же. В вязаной чёрной шапке. Как бандит с приподнятым чулком. После грабежа. Шёл, говорил нараспев: «Какая женщина! Ах, какая женщина!» «Мне б такую», – чуть не закончил за него Яшумов. Но Дубинин уже приставал к другим, впереди, тоже, видимо, пел о «такой женщине»…
Улетели домой в тот же день. Вечерним.
В самолёте Яшумов опять держал руку измученной, торопливо спящей женщины.
5
В час ночи осторожно вставил ключ в замок. В замок двери собственной квартиры. Действовал как опытный вор-домушник. Начал поворачивать, но ключ не пошёл. Замок заблокировали. Изнутри. Облом, прошептал бы домушник настоящий.
Слушал удары сердца. Кнопку звонка надавил коротко.
Дверь открылась. Жанна. Разбуженная, сердитая со сна. «Не греми. Мама с папой спят». Мятый короб рубахи ушёл в темноту.
Не включая свет, раздевался. Снял обувь. Пошёл в туалет, в ванную. Туда и обратно проходил мимо комнаты няни. Теперь комнаты для гостей. Где в темноте трубил глубокий бас-профундо, перешибая напрочь нежные колоратурки сопрано. Колпинцы прописались уже постоянно. Музейный период, когда ходили по квартире с раскрытыми ртами, давно закончился.
В спальне лёг на своё место у стены. Отвернулся, руки сунул под голову. Почти сразу уснул.
Проснулся преступно поздно. В девятом часу.
В столовой уже завтракали. Незамеченным мимо невозможно было пройти. Поздоровался: «Доброе утро». Жена будто не услышала. Сидела с оттопыренным мизинчиком, удерживая чашку. Анна Ивановна и Фёдор Иванович растянули «здрасьте». Мол, нарисовался – не сотрёшь.
Мылся под душем. Смывал вчерашнее. Когда в коридоре вытирал полотенцем волосы, тёща и тесть уже одевались в прихожей. Нужно было выйти, проводить.
Прощаясь, главный артист, Фёдор Иванович, говорил дочери, но голову повернул к зятю с полотенцем:
– Ну, дочка, почеломкаемся, что ли. На прощанье! – Мол, мало ли. Может, и не увидимся больше. С таким мужем-то. Будешь ли ты жива в следующий раз – неизвестно.
И он и жена почелоОмкались с дочерью. По очереди. Говоря нормальным русским языком – поцеловались с ней.
Сцена получилась фальшивой. Плохо сыгранной. Но было отчего-то стыдно перед стариками.
А они, только кивнув Яшумову, спотыкались уже о порог. Словно бы всё ещё от обиды за дочь.
На работе тоже не заладилось. Сразу вызвал Акимов. В свой царский кабинет. И опять из-за чёртова Савостина.
– Я же не занимаюсь теперь им! – восклицал Яшумов. – Работают с ним Григорий Аркадьевич и Лидия Петровна. Претензии к ним!
Оказалось, графоман прибегал вчера и жаловался, что роман его сократили на треть. На целую треть! Анатолий Трофимович! И сама Зиновьева поработала, и Плоткин руку приложил. А что будет дальше? Дескать, накажите их скорей, накажите!
И Акимов сердито гнул своё:
– Вы главный редактор. Главный! (Пока.) Вы должны контролировать ситуацию с Савостиным. Впрочем, сейчас спросим и у виновников.
Акимов снял трубку и вызвал Плоткина и Зиновьеву. Виновники тут же прибежали. Плоткин пустой, Зиновьева с рукописью в обнимку.
– Как понимать ваши сокращения у Савостина?
Плоткин на пальцах стал разъяснять. Сократили невозможные куски. Невозможные. Нечитаемые. Анатолий Трофимович! Вот пример. Выхватил рукопись у Лидии Петровны. Послушайте…
– Не надо, – сразу поднял руку директор. – Не надо… Вы скажите лучше, что мне теперь делать? Что я теперь скажу Вениамину Антоновичу (Восковому)? После всего, что он для нас сделал. Что?
Подчиненные не знали, «что он скажет». Молчали.
– Словом, идите и работайте. Дописывайте сами эти куски, сочиняйте их. Ещё что-то делайте. Но роман должен выйти в оговоренном размере. Всё!
В коридоре редакторы и Главный не поверили, что так можно разговаривать с подчинёнными. С редакторами-профессионалами. Что такое могло бы случиться в другом издательстве. Да как он смеет! Да это же крепостное право! До чего дело дошло у нас! Да мы сейчас вернёмся и скажем ему! Но всё это уже тихо, почти шёпотом. На ходу.
После Акимова приехал домой раздражённым. Переодевался. Помыл руки и пошёл на кухню. В телевизоре опять кривлялась семейная пара. Плясала, дружно вскидывала ножки. Жанна сидела серьёзной.
Просто голодный Яшумов ел. Но неостывший Яшумов-редактор страдал:
– Ну зачем ты смотришь эту пошлость? Зачем? Ну что там смешного?
– Мама с папой смотрят, – опять быстро ответили ему.
– Да ты-то зачем? Раз тебе не смешно.
– Ладно. Переключу.
В телевизоре врубилось: «Как у вас расследование по расчленёнке? На Белорусском вокзале? Да вы что?! Не поехали ещё туда? Да я вас!» И дальше, как говорится, уже неразборчиво.
О боги! Отредактировать Эту Женщину никак не получалось.
Яшумов откинулся на стул. Перекосился как инсультник.
6
…После прилёта с похорон занудный на работу проспал. Храпел ночью как ненормальный. Почище папы. Утром пришлось ему из дому выходить с женой. Второй. Или третьей? Ни звука о похоронах. Как будто просто съездил к кому-то на дачу. Папа и мама ничего не могли сперва понять. Какая жена? Где умерла? Утром не сел с ними за стол. В ванной прятался. И сейчас идёт рядом, молчит. Где был-то? Расскажи жене! Филолог! Ну вот, уже и к метро вышли. По площади идём.
– Ладно, Жанна. Пока.
И, главное, пошёл. Пошёл от жены. От законной. Так ни слова и не сказав. Не объяснив ничего. К автобусам пошёл. На остановку. В своём пальто с куцыми фалдами. С обтянутой спиной. Похожей на сутулый барабан. В тугой барабан этот хотелось бить сейчас колотушкой. Догнать и бить! Чёрт бы тебя побрал!
В переполненном вагоне умудрилась сесть. Сидела, покачивалась. Чувствовала, что щёки горят, а ноздри раздуваются. (Мама всегда замечала это.) Какой-то хмырь склонился, стал нашёптывать. На штанге висел, выпендривался. Будто бройлер только что забитый. «Пошёл отсюда, козёл!» Вскочила, оттолкнула, пролезла дальше.
На крыльце коллектора встречал ещё один козёл. С усами. С дымящей сигаретой. «Опаздываете, Жанна Фёдоровна». Согнул запястье с часами. Месяц назад тоже попытался. Навис. В тесном коридорчике. Ломанулась дальше так – что к стенке отлетел. И ни звука после. Как будто ничего не было. Просто столкнулись в тесном коридоре. Женщина и мужчина. Девчонки хохотали. Хотя курочек в курятнике щупает. Ох, щупает. Ту же Гулькину Таньку. Да и Ливнева из кабинета его всегда выталкивается с испугом. Подол оправляет и причёску. А ведь женат. Дети взрослые. Внуки уже есть. Интересно, филолог бегает на сторону или нет. Ведь полная редакция курей. Та же Зиновьева. Черноглазая красотка от Лореаль Париж. Видела один раз вблизи. Должна быть в Доме моделей. Сто процентов. Ходить по подиуму. А не над всякой писаниной корпеть. Всегда о ней с восторгом. Даже с любовью. Но как папа. Добрый папа. Хотя кто его знает?..
Девчонки сразу окружили. Только плащ сняла. «Ну как он после похорон? Кто она такая? От чего умерла?.. Да не молчи ты!»…
…Савостин Яшумова не переставал удивлять. Пришёл на этот раз в каких-то гомосексуальных штанах. Розового цвета. И тоже в обтяжку!
Однако не дал себя рассмотреть, сразу взмолился:
– Глеб Владимирович, заберите меня от этих, заберите. (Эти – это Зиновьва и Плоткин.) Вы со мной работали, критиковали, но работали. А эти… Опять подряд сокращают всё. Дописывают чего-то там. Вместо Макса, верного друга Артура, придумали какого-то Клямкина. Тот теперь всё время забивает Артура. Не даёт ему развернуться на полную. Кто он такой, этот Клямкин? Откуда явился? Глеб Владимирович?
Яшумов полез под стол. От сдавленного смеха разрывался. Очередная хохма Плоткина! Плоткин-Клямкин. Клямкин-Плоткин. Нет, это невозможно!