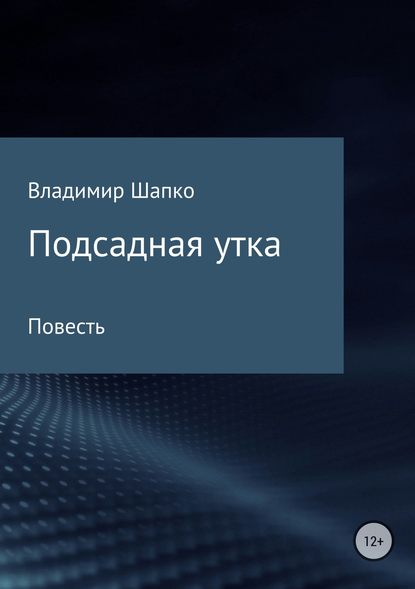По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Подсадная утка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А десять!
– Беру, чёрт тебя!
– Держи! – и старик сунул покупателю пару щенков.
Покупатель удивлён, покупатель ошарашен, будто не ждал, не гадал – и двойнят в роддоме получил…
– Бери, бери! Десять – пара! – успокоил его старик.
Ну уж ладно, коль пара десять, приму. Так и быть, признаю, коль пара – десять. И, отдав старику десятик, покупатель помчался в овощные ряды, где торгует его жена, обрадовать прибытком: «Вот, считай, задарма достал пару шшанков, жана!»
Налетела стайка босоногих ребятишек, окружила старика и собаку. Смотрит на щенков, носы калибрует, головы ломает: где взять «шышнадцать»? Где?.. А старик разошёлся, а старик расторговался:
– Шышнадцать, мил человек! Держи пару за пять! Не надо пару? Держи одного! – И пошла торговля, и пошли щенки выстреливать из кучки один за другим: – Держи!.. Держи!.. Держи!..
Сперва Пашка смеялся над потешной торговлей старика, но, глянув случайно на Юру, оборвал смех. Юра стоял бледный и во все глаза смотрел на собаку. А бедная, глупая сука, если поначалу только мордой провожала непонятные взлёты своих дорогих брюшаток, то сейчас начала беспокоиться, дёргаться, повизгивать. Вдруг вскочила, сунула морду в трех оставшихся щенков, обнюхала их жадно, но тут же легла на место, казалось, успокоилась даже, но глаза… глаза её уже с болью метались. Снова вскочила, яростно зарылась в щенков. Юра схватил Пашку за руку. Старик оттащил собаку, обнял, гладить стал, успокаивать, но ту уже накрыло ужасом – скулит, вырывается, глаза в боль убегают, не слышат, не понимают хозяина. Старик прижал-закрыл голову собаки руками. Закричал ребятишкам. Беспомощно, просяще:
– Чего смотрите-то? Забирайте щенков!
– Так ить, дедушка…
– Да задарма же… Ну-у!
Ребятишкам два раза повторять не надо: нагнулись, потолкались – щенки исчезли. И ребятишки тоже.
Собака кинулась, ткнулась в скомканный сидор. Замерла. Потом заметалась, задёргалась на верёвке, резкой дугой выгнулась – носом тычется, тычется в землю, под себя, вокруг, дальше, по галошам старика, по Юриным ботинкам, ещё дальше… Старик испуганно топчется, кулак с верёвкой поднял, как фонарём водит, точно высветить помогает, а собака тычется: как же!.. Господи!.. вот только же! где?! За что?! Вдруг вскинула голову, тявкнула, и с самого дна собачьей души жутко хлестнуло по базару: у-у-у-у-у-у-в-в-у-у… Глаза закрыты, плачет, трясётся полураскрытая пасть: у-у-у-у-в-в-у-у… Старик и так и эдак: то за верёвку дёргает, то гладит, к ноге прижимает… У-у-у-у-у-в-в-в-у-у-у…
Вокруг стал завязываться народ.
– Чего это она?
– Да вот щенков у неё забрали. Переживает. Тоже мать…
– Эй, старик! А суку-то тоже продаешь, а?
Старик молчал. Он сворачивал сидор. Собака больше не выла. Она оглушённо стояла, будто облитая водой.
– Я чего говорю-то, суку тоже про…
– Продал! – зло сверкнули глаза старика, он дёрнул за верёвку, пошёл к воротам. Сука покралась сбоку.
– Чудной старик! Сперва задарма, опосля за деньги, и ещё обиделся чёй-то… Чу-удной!
Народ стал расходиться. Столбами стояли Юра и Пашка. Женька, ничего не понимая, заглядывал им в лица. Не сговариваясь, быстро пошли к воротам, вышли на улицу, но старик и собака исчезли.
Вдруг Юра отвернулся и закрылся рукой.
– Юра, ты чего? Юра? – Пашка пытался заглянуть ему в лицо.
– Мама… бедная… я… я… она…
– Какая мама, Юра?!
– Она… она… – давился слезами Юра. – Она… не хотела… а он… он отобрал меня… Паша!.. Она искала меня… искала!.. а я… я… Паша!..
– Юра, брось, не надо, – в беспомощной тоске озирался по сторонам Пашка. – Прошу тебя, не надо, не плачь…
Испуганно задёргал Юру Женька:
– Не плачь, Юра-а-а, – и тоже запел: – Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы…
– Я… я ничего… Женя… я сейчас…
Злорадным загоревшись интересом, к ребятам придвинулся какой-то дядька:
– Чё, пацаны, обчистили, да? Когда?
– Проходи, дядя! – злобно погасил его Пашка.
А Юра всё плакал. Склонённая голова его в кепке была на тонкой шее как худой, усохший подсолнух. Пашка не мог больше смотреть на него.
– Юра, не надо, прошу тебя…
Вдруг схватил его за плечи, затряс и как в бреду заговорил:
– Мы докажем, Юра! Всем скотам докажем! Слышишь? Ты – человек! Юра! Всем гадам докажем! Мы – люди! Мы поедем в Свердловск! Потерпи год! Мы поедем! Обязательно поедем! Ты меня знаешь! Слышишь, Юра?! Мы найдём её, найдём, Юра!..
А через два дня, в воскресенье, загорелось в квартире Колобовых.
Полина Романовна нечаянно столкнула с табуретки немецкой керогаз, только что ею самой заправленный бензином и зажжённый. Тут же рядом опрокинулась немецкая канистра, почти полная этого самого бензина. (Сергей Илларионович бесплатно отоваривался бензином у шоферов в гараже редакции.) Пыхнуло так, что громадная Полина Романовна вынеслась вместе с оконной рамой наружу, упала во двор. Юра, слава богу, был на улице.
Повыскакивали из домов соседи, стали плескать вёдрами воду, землю кидать лопатами, но полыхало уже вовсю, и подступиться к окнам, к двери, чтобы спасти что-нибудь из вещей, было уже нельзя.
Заполошно визжа, примчались брезентовые пожарники, быстренько раскидались шлангами по всему двору и от души пошли лупить из советских брандспойтов в окна по немецким вещам Сергея Илларионовича. И хотя грех это большой смеяться над чужим несчастьем, но в глазах сбежавшихся отовсюду людей плясало вместе с пламенем откровенное злорадство. В пятнадцать-двадцать минут выгорел угол дома, и образовалась разинутая, какая-то ненасытно-жадная пасть, в которую лупили и лупили пожарники из брандспойтов, словно никак не могли её насытить водой…
И как часто бывает на пожарах, последним прибежал сам хозяин. С сеткой, набитой овощами.
Он дико разглядывал эту, уже потушенную, чёрно-мёртвую парящую пасть на месте своей квартиры… Вдруг по-звериному взвыл, рванул рубаху на груди, обнажив сизую русалку с рыбьим хвостом, и пошёл на Полину Романовну.
– Сэрж, умоляю, Сэрж! – отступала Полина Романовна.
От удара Сэржа Полина Романовна падала прямо и медленно, как колода.
– Папа! Папочка! – кричал Юра, хватая отца за руки.
– У-убью, змеёныш! – Озверевший куркуль занёс руку.
Юра пятился, втягивал голову, втягивал, судорожно выкидывая над ней худые руки.