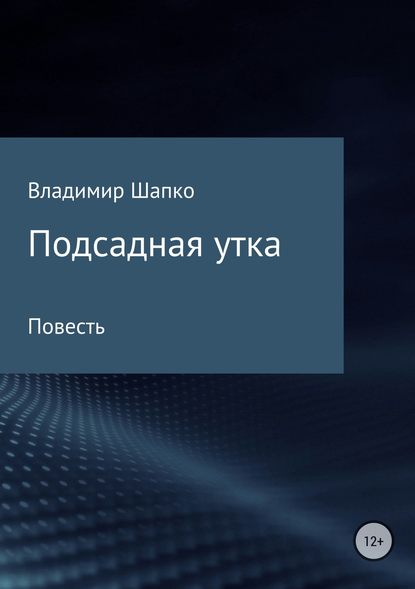По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подсадная утка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Каждую зиму городской каток растекался и замерзал по стадиону на окраине городка. Каток не имел ни чёткого размера, ни чётких границ. А если посмотреть на него с другой окраины, с восточной, с гор, то походил он на распластанного осьминога с бездонным жутким глазом, ползущего от городка прочь, в бескрайнюю белую степь. Ещё в первый год войны окрестные жители по ночам растащили забор, скамейки поотпинывали пимами, посширкали пилами столбы и столбики. Чудом уцелела высоченная входная арка – два выстреленных в небо дощатых колодца. Колодцы эти схватились вверху аркой, как два друга не сильно трезвые. На самой арке прибиты были из колотого штакетника замшелые буквы: …А Д И О… «Это «адио» что, спортивное общество такое?» – поинтересовался Юра, когда в первый раз пришёл на каток с Пашкой, Лямой и Махрой. «Ду-у-ура! – в полверсты растянул слово Ляма, но пояснение всё же дал: – Стадион!.. «Адио», тоже мне…» Ворот при входе нет – лишнее. Двери на колодцах тоже потеряны безвозвратно. По ночам в эти колодцы чёртом забирался степной ветер, повизгивал и жутко выл, как в порожнем элеваторе. Днём тут не страшно – днём это «кассы». Ребята заглянули внутрь: о, тут тоже, оказывается, лед. Только желтый. Но кроме прочих всех дел тут можно задрать голову и высмотреть в конце дырявого колодца, как снежинку бледную, далёкую звёздочку. И это посреди ясного дня. Или высунуться из низенького кассового оконца наружу и хитро сказать: «Махра, ку-ку!» – и тут же получить снежок в лицо и дикий совершенно хохот Махры.
По вечерам с арки, из старого, военных лет, громкоговорителя, как из усохшей глотки, сахариново пело:
…Утомлённое со-олнце нежно с морем проща-алось…
А по тёмному льду степной пронизывающий ветер гонял из конца в конец позёмку да с пяток красноносых, упорных конькобежцев, закутанных, замотанных шарфами. Высоко на столбе одиноко моталась лампочка под железной тарелкой – словно толстощёкий цирковой китаец на трапеции раскачивал широкие светящиеся штанины туда-сюда: по льду, по сугробам, возле арки… А конькобежцы словно гонялись за этими «штанами», путались в них и в безнадежности уныривали в темноту.
Но чтобы Юру Сергей Илларионович пустил вечером на каток – даже если хорошая погода и на катке полно народа, даже если всё время играет музыка и под неё красиво катаются очень красивые девочки – об этом не могло быть и речи. Только днём, только в воскресенье, только с Пашей. Пашка в глазах Сергея Илларионовича считался надёжным человеком. «Чтобы всё было хорошо, Паша!» – стоя на крыльце в тужурке, чеканил Сергей Илларионович. Что именно «всё» – он не пояснял, но Пашка на всякий случай солидно удивлялся: «Да какой разговор, Сергей Илларионович?» И ребята ехали на коньках со двора. «Юра, в четыре часа!» – вбивал «кол» на прощание Сергей Илларионович.
На улице, за домом, где бдительный Сергей Илларионович видеть ребят уже не мог, к ним радостно присоединялись Ляма и Махра.
Катание на Юриных коньках происходило так: сначала сам Юра делал круга два по стадиону, садился в сугроб, снимал ботинки и надевал Пашкины валенки без коньков. (Коньки были сняты, как только исчезал с глаз Сергей Илларионович.) Затем Пашка осторожно – непривычно на ботинках, не то что на валенках – ширкался пару кругов. Дальше маленький Ляма с трудом закреплялся в здоровенных ботинках и ехал. И вот уже длинный Махра с большим недоверием истинного профессионала разглядывает, крутит в руках коньки на ботинках: разве может путное что-нибудь выйти из этой затеи? Без надёжного крюка в руках и… ехать? Но уже через минуту, вывихливая руками-ногами на льду, орал удивленно-радостно: «Пацаны, е-еду!»
Потом опять Юра… Пашка… Ляма… Махра… И так каждый переобувался раза три. Но получаемое удовольствие ото льда и настоящих коньков стоило того.
А дальше было уже: «Дядя, сколь время?..» «Тётенька, который час?..»
Ровно в четыре часа Пашка и Юра – оба на коньках – въезжали в свой двор. Сергей Илларионович – в морозном окне, как замороженный судак, слушал бой своих идиотских часов. Затем закрывал крышку и с удовлетворением опускал часы в карман тужурки. Вечером же он сам шёл на каток вместе с Полиной Романовной. Сергей Илларионович катался под музыку, а Полина Романовна стояла и смотрела, держа под мышками длинные плоские, фабричной катки валенки Сергея Илларионовича. По одному валенку с каждой стороны.
Но в одно из воскресений Пашка напрасно ожидал Юру на каток, зря раскатывал на своих «дутыше» и «норвежке» перед окнами Колобовых. Юра появился в окне, как живой печальный цветок посреди мёртвых морозных цветов, и отрицательно покачался. Пашка удивился. И продолжал удивляться в последующие дни – Юра стал избегать его, Пашку. Поздоровается, два-три слова и: «Я сейчас тороплюсь, Паша, после зайду к тебе…» И не заходил. Чудеса! Пашка всерьёз уж было начал обижаться на Юру, хотел даже «пару ласковых» сказать ему на прощанье, но причина непонятного поведения Юры оказалась простой – ему было стыдно. Непереносимо стыдно перед Пашей, перед ребятами. Стыдно за себя, за свои коньки, за своего папу. Оказалось, Юра, как всегда восторженно, рассказал дома, как они все вместе катаются на катке – Сергей Илларионович тут же с большим возмущением отобрал коньки. И спрятал. Как будто он, Юра, их возьмет теперь. Да и не нужны они ему вовсе! Пусть их, раз так… «Брось, Юра! Подумаешь – коньки», – успокаивал его Пашка. «Но ведь он подарил их мне! – чуть не плача, говорил Юра. – Значит я… Да и если их наденет кто другой и покатается – это же всё равно, что я! Конькам-то что будет от этого?» – «Да ладно, Юра, плюнь…»
Спустя несколько дней Пашка и отец возвращались домой из бани. Оба с берёзовыми вениками под мышками, распаренные, умиротворенные. Уже перед домом отец спросил, почему ребята перестали ходить на каток. Пашка разъяснил. Отец остановился и начал постёгивать веником по валенку.
– Ах ты, немец чёртов! А ну пошли!
Домой влетел, чуть дверь с петель не сдёрнул.
– А ну, мать, – живо какие деньги у нас!
– Это ещё зачем? – подозрительно прищурилась мать.
– Давай, тебе говорят! – хлестнул по валенку веником отец. Мать испуганно кинулась к комоду, начала торопливо рыться под бельём. – Быстрей! – гремел отец. Схватил деньги: – Пашка, за мной! – И оба вылетели за дверь. И с вениками, и с бельем. Мать упала на табуретку.
Через час заявились с новенькими блестящими коньками на ботинках. Ойкнула мать и вторично села на табуретку.
– Ничего, ничего, мать, не пугайся! Ну-ка Паш, надень!
– А есть-то чего будете, а? – запричитала мать. – Подумал, а?
– Ничего, ничего! На-ка вот, осталось тут… – Отец сунул ей в руку скомканную красную тридцатку. – Давай, Паш, пройдись!.. Ну вот – совсем другое дело! А то ишь чего, жмот, удумал!
– Какой жмот? – Мать убито разглядывала тридцатку. – О чём ты?
– Сами знаем! – подмигнул Пашке отец.
Теперь на катке ребята катались на Пашкиных коньках. Однако Сергей Илларионович увидел некий вызов в безрассудном поступке Пашкиного отца. Ущемленность своего точно заведённого немецкого достоинства ощутил он. Тщательно взвесив все «за» и «против», Сергей Илларионович счел возможным вернуть коньки Юре. Подарить как бы опять. Во второй раз.
…И вот схлестнувшись из-за Юры с матерью, Пашка, как злых шмелей, вытряхивал угли из утюга в углу двора. Он долго, уже бессмысленно тряс пустой утюг, топчась сапогами в еле затянувшихся лужицах с подживающими коростами грязи, тоскливо взглядывал в черноту мартовского ночного неба. И опять виделось ему, как Юра, спотыкаясь, торопится по тёмным улочкам городка, торопится домой, теперь уже на другую квартиру, куда Колобовы переехали прошлым летом; как боязливо косится он на чёрные дворы, вздрагивая от внезапно-заливистых собачонок и прижимая к груди коньки, которые – в который раз уж! – вновь подарены ему папой… Видит Пашка, как потухше стоит Юра перед освещённым злобой Сергеем Илларионовичем, и тот тычет ему под нос идиотские свои часы, потом вырывает из рук коньки… Пашка замер с расхлябнутым утюгом в руках: как он забыл? Как? Ведь и покатались-то бы, наверно, в последний раз – днём лужи уже на катке, к вечеру только и подмерзает… Нет, завтра же он пойдёт к Юре, прямо домой, и скажет… А что он скажет?.. Что забыл? Про дружбу их забыл?.. Еще тяжелей и муторней стало на душе у Пашки.
Но как бы ни клял, ни стыдил себя Пашка в тот вечер, а Юра, верный, добрый Юра той весной отошёл для него на задний план. Впереди оказался Гребнёв со странной и непонятной свой дружбой. Пашка потом задним умом сам будет удивляться: куда? чем он смотрел?..
8
Однажды, вытирая в сенях Гребнёвых сапоги, Пашка услышал из-за двери голос старухи. Старуха с какой-то испуганной натугой выкрикивала, как ударяла:
– В пяртию?! Прокляну! Антихрист! В пяртию?! Не допушшу!..
Пашка удивлённо замер.
– Вы дура, м-мамаша! – зло бубнил Гребнёв. – Если вы будете п-п-путаться под ногами, я вас из дому в-в-вышебу к чёртовой матери, м-маа-аша!
– Только попробуй! Только попробуй! Забыл? Забыл откуда деньги? Так я тебе живо напомню!.. Ишь чего надумали, антихристы! Энтого выбл…ка комунячьего привечают, дескать, старуха из ума выжила – не поймёт… В пяртию?! – И опять завизжала, как на пожаре: – Прокляну! Антихрист! Не допушшу!
Откуда-то выскочил голосок тёти Лизы:
– Ах ты, старая клизма! Ты мому Васе мешать? Ты нам мешать?.. Да я те зенки повыцарапаю! Всю мусатку в кровь, в кровь!..
За дверью что-то загремело, упало, покатилось.
Пашка почувствовал, что краснеет, попятился от двери и, как вор, на цыпочках вышел на крыльцо. Приподнял за ручку скрипучую сенную дверь, осторожно притворил. Мимо окон к воротам не пошёл, а быстро пересёк двор и маханул через штакетник.
«Вот тебе и «пяртия»! – ошарашенно думал Пашка, сидя дома за столом. – Значит, в партию Гребнёв собрался… Однако – новость!»
– Чего настёганный такой примчался? – спросила мать. Длинная картофельная стружка из-под её ножа раскачивалась, пружинила над ведром. Стружка сорвалась в ведро, и белая картофелина со всплеском полетела в кастрюлю, полную воды. – Я чего говорю-то, пирогов, что ли, нет сегодня?
– Да пошли вы со своими пирогами! – Пашка ринулся из комнаты, на ходу хватая, дёргая зло с гвоздя телогрейку.
– Я вот тебе пойду! Вот возьму сейчас дрын!.. – неслось вслед.
Не разбирая дороги, Пашка слепо шёл по вечерней, затаённо дышащей погребом улице. «Но я-то, я-то при чём? – проваливались, оступались бегучие мысли вместе с сапогами в чёрные пустоты дороги. – Он вступает – ну и чёрт с ним! Я-то при чём?.. А старуха-то! Вот тебе и тихоня! Но почему она про меня орала? Я-то тут с какого боку?..»
Когда бы ни пришёл Пашка к Гребнёвым, старуха сразу менялась лицом, срывалась с места и, как тёмненькая, но стеснительная тучка, исчезала куда-то. Она словно боялась пролить злобу свою при всех.
Если, к примеру, Пашка входил в «зало» и старуха была там, то тут же вскакивала и исчезала в кухне. Если Пашка в кухню – она в «зало». Да что она, боится его, что ли? – шарахался от старухи Пашка. Или ненавидит? Никогда не смотрит тебе в глаза. В ноги куда-то, в ноги. И шипит, и шипит. Как змея. А чего шипит – сам чёрт не разберёт!
Или сидят все в комнате, а старуха на кухне. Пойдёт тётя Лиза за чем-нибудь в кухню, и будто угли в воду начнут кидать, – и зашипели, и зашипели. Теперь уже обе. Возвращается тётя Лиза – опять лицо сияет красной головёшкой. Как в кухню – так ш-ш-ши! ш-ш-ши! там чего-то. «Однако странно!» – думал Пашка.
Старуха была сильно набожной. Один угол в кухне весь был завешен её иконами. Большими, средними, маленькими. Целый город икон. Будто повис в небе и в цветах бумажных, как в бело-голубых садах, утопает.
Были ещё у старухи диковинные церковные книги. Тяжеленные. Взял как-то Пашка одну в руки. Прикинул вес: килограмма три потянет, не меньше. Что это? Библия? Молитвенник какой? – Пашка не успел разобрать: сзади кошкой подкралась старуха, цапнула книгу. Захлопнула – и в «зало», опахнув Пашку холодом тучки. «Да что она, дура, съем я её книгу, что ли?» – испугался Пашка.
И только один раз старуха Гребнёва встретила Пашку приветливо.
Он зашёл к Гребнёвым днём, перед школой узнать там чего-то или передать дяде Васе. Старуха стояла под иконами, опершись рукой на столик, как для фотографии, и, глядя Пашке прямо в глаза… улыбалась. Чудеса! Пашка растерянно улыбнулся в ответ. А старуха вдруг резко, как тряпичная кукла, кланькнулась Пашке в пояс и с каким-то слезливым надрывом проголосила:
– Сыно-ок, Христо-ос воскрес!
– Где?! – испуганно оглянулся Пашка.