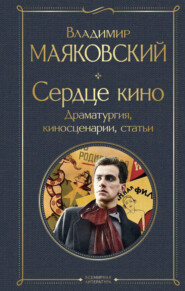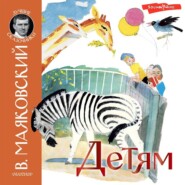По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Песнь о собаке. Лучшие произведения русских писателей о собаках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не только своих собственных собак, но на округу в 100–200 верст, все знают собак «в лицо», их имена, даже характер и особенности каждой. Я сам присутствовал при разговорах, когда не только собравшаяся молодежь, но и серьезные промышленники подолгу и горячо обсуждали стати той или иной собаки. И я сам близко к сердцу принимал и понимал их волнение, их интерес.
Теперь, увидав эту маленькую серенькую собачку, я сразу отметил ее среди всех остальных мною раньше виденных. Она поразила меня не только своей красотой и грацией. Она как-то сразу завоевала меня своим веселым характером, своей подвижностью. Пока она была в юрте, буквально ни на минуту не оставалась она спокойной. То она залезет под орон и с торжеством тащит оттуда шкурку рыбы или начинает тянуть конец запрятанной сети, за что мимоходом получает звонкий шлепок от старухи… С визгом летит в сторону и вот уже снова за работой, пытаясь протащить через всю юрту брошенную в углу кухлянку…
Порой на минутку сядет на задние лапки и замрет, комично заломив одно ухо и навострив другое…
Я не мог оторваться от нее, так она была потешна и красива. Наша дружба завязалась очень скоро. Попробовал дать ей сухарик – она понюхала, не поняла и умчалась прочь. Я обмакнул сухарик в сладкое сгущенное молоко – такой же результат. Тогда, поймав ее на ороне, я вымазал молоком ее мордашку – она с гримасой стала слизывать липкое молоко и… сразу почувствовала прелести цивилизации. Сладкое молоко ей, конечно, очень пришлось по вкусу, кусочек сухарика был немедленно изгрызан ее тонкими, как булавки, зубенками. Теперь она уже не отходила от меня и на ночь уютно устроилась у меня в ногах под моим одеялом. Это оказалось решающим моментом – наша дружба с тех пор была заключена.
Еще с вечера я завел со старухой разговор об этой собачонке.
– Торгуй, эмяксин, ыт![9 - Старуха, продай собаку!]
Старуха решительно покачала головой:
– Нет!
Я знал, как промышленники дорожат своими собаками, и не удивился этому отказу, хотя, конечно, с другой стороны, отказывать в чем-либо гостю и считается на Севере верхом невежливости.
Раздобыть для себя эту веселую собачонку вдруг запало мне в душу – я решил настоять на своем.
На другой день я нарочно тянул отъезд, чтобы дождаться хозяина. Утром мне показали привязанную к дереву собаку – похожую на серого волка, лишь несколько легче и изящнее его складом. Это была мать так понравившейся мне собачонки. Она спокойно лежала в снегу и почти не обращала внимания на свою шаловливую дочь, которая с визгом бегала вокруг нее, теребила за хвост, за уши, перелезала через нее…
Только иногда, как будто равнодушным, но вместе с тем любовным движением, оскаливая белоснежные зубы, брала ее в пасть поперек туловища и отбрасывала в сторону. Они обе в эту минуту не походили на собак – это были играющие друг с другом звери.
Хозяин старухи вернулся домой, когда солнце стояло уже высоко. Он осматривал свои пасти[10 - Ловушки для животных.] и привез двух добытых песцов. Длинное чаепитие, строганина, оленина… Длинный, медлительный разговор на воляпюке с репертуаром из якутских слов, мне известных. Старуха, конечно, уже рассказала ему во всех подробностях о нашей несостоявшейся сделке. «Продаст или не продаст?» – задавал я себе вопрос.
Я уже собираюсь в путь, уже завязываю вокруг куртки потуже ремень.
– Хозяин, – говорю я равнодушным голосом, – торгуй ыт!
– Торгуй нету, – с поклоном отвечает мне старик, – бери так.
Это означало, что он не мог мне, как почетному гостю, отказать в моей просьбе – он предлагал мне собаку в подарок. Но я уже знал обычаи севера.
– Бахыбо, хозяин (то есть спасибо), – пожал обеими руками его руку и дал ему, тоже как подарок, десять рублей…
Все церемонии северных обычаев были соблюдены.
Когда моя нарта тронулась, у меня на коленях лежала собачонка, испуганно и вместе с тем с любопытством выглядывая из-под одеяла. Я здесь же окрестил ее «Неной» – НЕНА на языке морских ламутов значит СОБАКА.
Так началась моя жизнь с Неной.
Через несколько дней я уже был в Булуне.
Моя нарта остановилась перед домиком, в котором жили «государственные». Среди них были мои приятели, с которыми я сидел в Иркутской, Александровской и Якутской тюрьмах, с которыми вместе шел по этапу в Якутку. Оставив Нену в нарте под одеялом, я вошел к ним. После первых минут встречи я, выждав момент, с искусственно смущенным лицом, заявил им: «Товарищи, прежде чем селиться у вас, я должен вас предупредить – я не один, со мной спутница…» С удовольствием заметил, как все трое лукаво и многозначительно между собой переглянулись. Мы все вместе вышли к нарте, и я торжественно приподнял одеяло – Нена уже сидела, вопросительно поглядывая на нас и навострив свои остренькие уши. На лицах товарищей я прочитал разочарование.
Но скоро она сделалась и их любимицей. Посередине избы к потолку у нас была привязана для нее игрушка – на длинном шнурке круглая чурка на высоте ее роста. Нена часами играла, носясь за ней кругами по комнате, визжа от наслаждения и порою злобно рыча от негодования, когда чурка, раскачнувшись, стукала ее по лбу.
За Неной ухаживали все, но признавала она только меня. Меня она очень скоро признала СВОИМ ХОЗЯИНОМ, и, я знаю, это чувство она потом пронесла через всю свою жизнь. Это, пожалуй, не была любовь, не была верность и преданность – собачья привязанность, конечно, больше всего этого. Я уверен, что обо мне она думала и на своем собачьем языке называла меня только так: «ОН!» – обязательно со знаком восклицательным. ЧЕРЕЗ МЕНЯ воспринимала она всю жизнь, ОТ МЕНЯ шло для нее все… А я… я был к ней внешне строг, но в душе платил ей горячей любовью, и она это хорошо понимала.
Очень быстро Нена сама нашла себе в нашей избе место – на моем одеяле в ногах, причем часто свою мордашку она клала на мои ноги и так засыпала. Вечером она сама залезала ко мне на ту импровизированную кровать, которую мы с товарищами соорудили в первый же день моего приезда, и слезала с нее только утром, когда я сам позволял ей это. Нередко, просыпаясь и открывая глаза, я уже встречался глазами с ней и понимал, что она нетерпеливо ждала этого момента и просит, чтобы я ей разрешил спрыгнуть на пол.
Мы были неразлучны – где был я, там всегда была и она. Необычайно быстро, с легкостью звереныша ориентировалась она в обстановке и никогда не ошибалась, когда мы после длинных прогулок возвращались домой, – она всегда первая указывала мне дорогу. Видно было, что в лесу она чувствовала себя еще лучше, чем дома, и подмечала в нем такие тайны, мимо которых я порой проходил равнодушно.
Я доверял ей безгранично. Когда вскрылась Лена, я даже рискнул переехать вместе с ней на «ветке» на другую сторону – река здесь около трех верст шириною и течет мощным полноводным потоком между двух каменных берегов. Меня предостерегали против такого опыта, но я еще на Индигирке постиг искусство плавания на «ветке», узком плоскодонном челне на одного человека, и доверял Нене. И действительно, на удивление всем благополучно одолел эту трудность, рискуя не только собой и Неной, но также ружьем и фотографическим аппаратом. Нена за весь переезд не сдвинулась с места и лежала, положив голову на передние лапы, не спуская с меня ни на мгновение глаз.
Мы бродили с нею вместе по болотам и по лесам, сидели в «засядке», карауля гусей и лебедей, жили по несколько дней вдвоем в импровизированном шалаше. И видно было, что такая жизнь ей больше всего по вкусу.
На лето я поселился в Булуне отдельно у одного якута, разгородив свою комнату на две каморки – спальную и кабинет. Нена всегда лежала под моим письменным столом, и иногда я украдкой подмечал, как она утром потихоньку выглядывала из своей комнаты, не встал ли уже «ОН!» – ей хотелось поскорее на улицу.
Я притворялся спящим, и она покорно возвращалась на свое место. И слышно было, как она снова укладывалась на свою «постель» (такая же оленья шкура, как у меня), тяжело при этом вздыхая.
К осени она уже вполне сложилась. Это была прелестная собака – никогда ни раньше, ни позднее не приходилось мне видеть такой красавицы.
Среднего роста, на точеных ножках, с прямой, как стрела, спиной, острая морда с глянцевитым черным носом, пушистый хвост. Красивые темно-карие глаза с огромным черным зрачком. Вся серая, немного дымчатого цвета, с черным ремнем по хребту. К зиме она обзавелась густой пушистой шубкой, которая блестела, будто вычищенная керосином.
Всегда она была чиста и опрятна, очень следя за своим туалетом и часами себя облизывая. Ее сухая шерсть трещала электрическими искрами, когда ее гладили.
Она понимала все, что я ей говорил, и отвечала мне глазами. В одиночестве я привык разговаривать с собой вслух и часто сам не знал, с кем я разговариваю – с собой или с Неной. Но всегда был убежден, что наш разговор нам обоим хорошо понятен.
У нее был характер. Это не был вовсе тот добродушный пес, с которым я прожил на Индигирке и который безропотно и без всяких дум сносил все, что я с ним делал. Нена хорошо разбиралась в моих собственных поступках. Она хорошо понимала, если я ее наказывал за дело, и принимала это наказание как должное, но обижалась, если я ее наказывал в пылу раздражения несправедливо. Тогда она старалась держаться вдали от меня и своим поведением всячески подчеркивала мою несправедливость: когда я ее звал, делала вид, что в первое время не слышит, и отворачивалась с явно обиженным видом даже от тех лакомых кусков, которые я ей протягивал.
Тогда мы мирились, и она это принимала как должное – в знак примирения она быстро, но без особой угодливости лизала мою руку, и наши дружеские отношения сразу восстанавливались.
Было в ней что-то от дикого зверя, от раздолья и приволья той тундры и того леса, среди которых она родилась. Иногда она куда-то на несколько часов уходила, и знакомые якуты, приезжавшие в Булун, мне рассказывали, что встречали ее одну в лесу в 15–20 верстах от нашего селения. Там она за кем-то гонялась, на кого-то охотилась.
В прогулках с нею я нередко замечал, что места, по которым я шел впервые, ей уже хорошо знакомы. После таких прогулок она приходила домой с виноватым видом, сейчас же ложилась на свою «постель» и засыпала, вздрагивая во сне и во сне лая каким-то нутряным еле слышным лаем – очевидно, она снова переживала только что испытанные впечатления. Особенно она дорожила тем, что добывала сама, – пойманная мышь, с которой она сначала как кошка играла, а затем целиком проглатывала, ей, очевидно, была гораздо дороже и казалась вкуснее, чем даже строганина или копченая юкола из рыбы, так приятно хрустящая на зубах. Когда она сердилась, у нее щеткой поднималась на хребте шерсть, злобно приподнимались губы, и пасть ощерялась острыми белоснежными зубами. Даже мне становилось тогда жутко – так походила она в эти мгновения на разозленного зверя – волка, лисицу, песца. Но за всю свою жизнь ни меня, ни кого-либо из моих друзей она ни разу не укусила. Удивляло меня еще то, что она хорошо различала людей, с которыми я был в сношениях: она строго отличала моих друзей от людей мне безразличных и мне неприятных. Ей, несомненно, передавалось мое настроение.
К зиме Нена превратилась уже в совершенно взрослую, сложившуюся собаку. Общественное мнение Булуна безапелляционно высказывалось в том смысле, что моя Нена, несомненно, является в Булуне лучшей собакой. Только некоторые робкие голоса неуверенно называли еще Мойтрука (по-якутски «Ошейник»), здоровенного тунгусского пса, принадлежавшего местному псаломщику. Приезжающие в Булун тунгусы-промышленники засматривались на Нену, расспрашивали, чья собака, и некоторые пытались у меня ее «торговать». Я, конечно, отвечал им лишь улыбкой.
Здесь, на Севере, все собаки делятся на две категории – на ездовых и на промышленных. Первая категория – ездовые собаки – являлась наиболее распространенной, можно сказать, основной; это рабочий скот, на котором возят дрова, лед, ездят по ловушкам. Это – народ грубый, вульгарный, неинтеллигентный, нечто вроде российских дворняжек. Это они наполняют бессмысленным, треплющим нервы воем длинные зимние ночи. Они имеются у каждого хозяина – смотря по его достатку, собачья запряжка колеблется от шести до четырнадцати штук. Наоборот, промышленные собаки принадлежат к собачьей аристократии. Гораздо чаще встречаются они у кочевников – и то не больше одной-двух. Их берегут, их не кормят вместе с другими, с хозяином они находятся в гораздо более интимных отношениях, входя в круг его семьи: с промышленной собакой играют дети хозяина, она находится всегда у палатки или даже в самой палатке. Ее очень редко запрягают в нарту, с нею ранней осенью по глубокому снегу ловят песцов, она же помогает держать табун оленей вместе.
Нена, конечно, была промышленная собака. Но я не хотел пренебрегать ее воспитанием и несколько раз пускал ее в запряжке с другими – ездовыми собаками.
Через три раза она уже постигла это искусство, и при желании мне небольшого труда стоило бы сделать из нее «передовую собаку», то есть такую, которая бежит впереди, тянет и увлекает за собой всю запряжку. Эти «передовые собаки» на Севере особенно высоко хозяевами ценятся. Мне не было нужды превращать Нену в рабочую собаку, но ее наука мне все же пригодилась: когда приходилось на себе выволакивать нарту с дровами из снега или когда позднее надо было летом тащить на себе «ветку» вверх по Лене – я припрягал Нену, и она всегда добросовестно исполняла свои обязанности.
Гораздо больше обратил я внимания на Нену в другом отношении: я всегда брал ее с собой на охоту. И здесь она была на высоте положения.
Она выгоняла на меня зайцев, вынюхивала горностаев, отыскивала белок, всегда обращала мое внимание на куропаток, мимо которых зимой так легко пройти мимо. Для нее эти прогулки были сплошным наслаждением, блаженством. Так ясно я сейчас вижу ее перед собой: с огромными усилиями, барахтаясь в глубоком рыхлом снегу, бежит она впереди моих лыж; она постоянно оглядывается на меня, широкая пасть разинута, из пасти среди острых белых клыков свисает темно-алый, почти малиновый язык, с которого капает слюна; глаза горят от возбуждения, все тело трепещет, вся она порыв, нетерпение – и вместе с тем ее внимание разделено между мною, хозяином, который каждую минуту может ей отдать приказание, и стремлением мчаться все дальше вперед, все дальше в завлекательную, таинственную глубь леса, где так много всего: шорохов, запахов, следов…
Нена не была моей рабочей собакой, но она и не была моей охотничьей собакой – она была гораздо больше всего этого. Нена была моим верным, испытанным, можно сказать, единственным другом.
Я жил в Булуне очень одиноко и был далек даже с товарищами по ссылке и по судьбе – больше, чем они, меня интересовала моя собственная внутренняя жизнь: северная ссылка и в особенности прожитый перед этим год на Индигирке в полном одиночестве располагали к самоуглублению. При таком настроении Нена, конечно, была для меня другом единственным в своем роде.
Моя жизнь без нее была бы в то время совершенно иной, и даже сейчас, оглядываясь на прошлое, я не представляю, как бы я тогда прожил без нее. Она не навязывалась мне сама, она рабски мне подчинялась и всегда охотно принимала мою ласку. Всю свою жизнь она приспособила к моим привычкам – из дома выходила лишь тогда, когда я ей это разрешал, часами могла спать под столом, пока я сидел за ним за своими книгами и тетрадями, с величайшей радостью сопровождала меня во все мои близкие и дальние прогулки. Она, несомненно, изучила мой характер, и так как я вел довольно регулярный образ жизни, то и сама отличалась необыкновенной консервативностью в своих привычках. Конечно, она чуяла меня еще издали, отличая от всех других, прекрасно знала мой голос. Я приучил ее к свисту, и был один особенный и пронзительный, на который она спешила, где бы он ее ни застиг. Когда я вечером шел спать и Нены не было в избе, я обычно влезал на крышу своего домика и оттуда несколько раз пронзительно свистал этим особым свистом, известным только ей и мне. И всегда проходило не больше нескольких мгновений, редко когда больше полуминуты, как Нена вырывалась откуда-то из мрака ночи и радостно бросалась мне на грудь. При этом она иногда от стремительного бега так тяжело и прерывисто дышала, что мне было несомненно, что мой свист заставал ее где-то далеко, и она, бросая все, – все свои, быть может, очень важные дела, – мчалась на мой призыв. Кстати, скажу: Нена никогда не выла, лай же ее я слышал всего лишь несколько раз в жизни – когда что-нибудь особенно ее поражало.
На изломе зимы пришла для Нены пора любви. Успехом среди собачьего населения Булуна она пользовалась огромным. Когда бы я не вышел из избы – днем или ночью, – я всегда находил около своего дома нескольких ее поклонников, совершенно напрасно ее дожидавшихся. Я был очень строг к этим несчастным влюбленным. Нену я держал взаперти в своей комнате и, выводя на прогулку, никогда не спускал ее с цепочки. Но даже и в тех случаях, когда я выходил один, меня всегда сопровождала целая стая поклонников Нены, и я должен был отгонять их от себя шестом – очевидно, они чуяли от меня дух Нены.
Особенно доставалось всегда при этом Калгашу – лохматому добродушному псу булунского исправника: откровенно говоря, я вымещал на бедняге наши политические разногласия с его хозяином. Снисходительно же отнесся я лишь к роману Нены с Мойтруком. Но, кажется, именно этот роман бедному Мойтруку стоил жизни, о чем мне рассказал один из товарищей по ссылке, бывший случайным свидетелем его смерти. Выйдя однажды ночью из своей избы, этот товарищ увидал странную сцену. Была яркая лунная ночь, и он отчетливо рассмотрел невдалеке большую свору возбужденных собак, кольцом кого-то окружавших. В середине что-то злобно рычало и бросалось из стороны в сторону, причем кольцо тогда резко прогибалось. Товарищ узнал в этом героически боровшемся против всех булунских собак псе – Мойтрука…