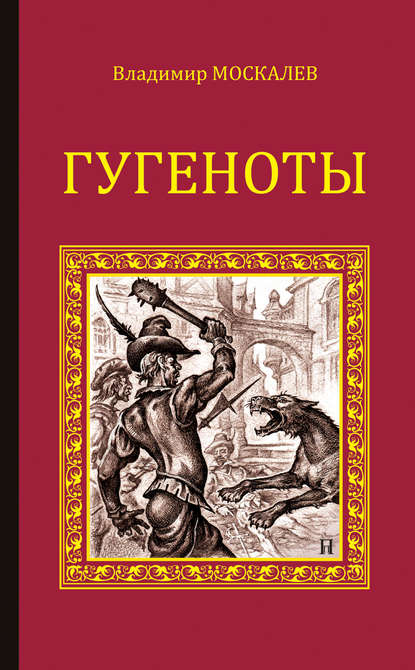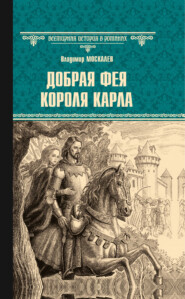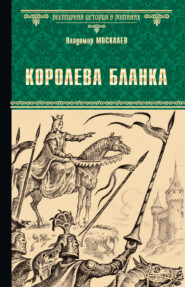По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гугеноты
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Позади раздался выстрел, и пуля пролетела над самой головой Лесдигьера. Потом грянул второй, и другая пуля, шипя, вонзилась в снег слева от лошади. Больше не стреляли: решили, видимо, подобраться поближе, чтобы бить наверняка.
И вдруг лошадь Лесдигьера сделала резкий скачок вперед. Он посмотрел вниз и увидел, что снег лежит какой-то особенной, светлой полосой, отличной от снега на полях. Выросший в сельской местности, Лесдигьер сразу понял, что поле кончилось, и он попал на дорогу, ведущую к домам, видневшимся далеко впереди.
Только таким путем теперь можно было уйти от погони, но этот же путь помог бы и солдатам Гиза догнать его, как только они выбрались бы на твердый грунт.
Как бы там ни было, Лесдигьер помчался вперед к тем далеким домикам в надежде, что там окажутся гугеноты, хотя по опыту знал, что среди крестьян почти нет протестантов. Протестантская религия была порождением города, а значит, дворянства, а крестьяне всегда видели в нем исконного врага, беспрестанно и беззастенчиво грабившего их.
По другую сторону дороги почва была испещрена небольшими бугорками с редкими деревьями меж ними, среди которых торчали высохшие стебли прошлогодней травы и камыша. Лесдигьер сообразил, что это – обширное болото, и у него моментально созрел план. Он продолжал скакать по твердой дороге до тех пор, пока не увидел, что кочки исчезли, а вместо них появилось поле, покрытое ровным слоем потемневшего снега. Лесдигьер сразу же свернул, и снова его лошадь замедлила шаг, увязая в глинистой почве. Было необходимо отъехать как можно дальше от дороги, чтобы мысль о погоне по наикратчайшему пути сама пришла противнику в голову.
Так и случилось. Все четверо тут же бросились наперерез, и двое всадников, опередившие товарищей, моментально увязли в болоте. Бедняги не учли, что морозы давно кончились, и корка льда, что покрывала болото, уже основательно подтаяла. Минуту-другую они отчаянно барахтались в черной жиже, перемешанной со снегом, погружаясь все глубже вместе с лошадьми и тяжелым снаряжением. Наконец прозвучали их последние крики о помощи, и безжалостная черная зыбь, словно врата ада, навсегда сомкнулась над ними.
Двое других, видя печальную участь товарищей, поспешили отъехать от проклятого места и вновь бросились в погоню, но уже тем путем, каким проехал их враг.
Лесдигьер не торопился, хотя и значительно оторвался от своих преследователей; наоборот, он молча ожидал обоих всадников, которые быстро приближались. Это был его последний шанс.
Когда расстояние сократилось до десяти туазов, Лесдигьер поднял пистолет, который баронесса де Савуази предусмотрительно засунула ему в кобуру на луке седла, и выстрелил. Один из всадников схватился рукой за грудь и упал с лошади, другой остановился в нерешительности, но Лесдигьер уже выхватил шпагу и помчался на него. Отступать было поздно, пришлось принять бой. Он закончился для солдата так же плачевно, как и для его товарища. Через минуту солдат замертво свалился на землю, судорожно хватая скрюченными пальцами мокрый снег.
Лошадь постояла с минуту, пока всадник размышлял о превратностях судьбы, заставляющих французов убивать друг друга только потому, что они по-разному веруют в Бога, и одни предпочитают проповедь, другие – мессу. Потом, в надежде успеть оказать помощь кому-либо из оставшихся в живых гугенотов, Лесдигьер повернул лошадь обратно. Но, едва выехав на тракт, разделяющий поле и болото, он почувствовал, что помощь нужна ему самому. Ослабев от потери крови и измученный болью в плече, он начал уже сползать с седла и, последним усилием воли направив коня в сторону деревни, потерял сознание, упав на гриву лошади и инстинктивно вцепившись в нее руками…
Очнулся Лесдигьер только под утро в теплой постели. Раны его кто-то заботливо перевязал, и они уже не так болели. Он открыл глаза и увидел человека, сидящего за столом и чистящего морковь. Юноша осмотрелся и понял, что находится в доме крестьянина. Посреди жилища громоздился стол, сколоченный из грубо отесанных досок. Вдоль стола, соразмерно его длине, – скамья, к стене прибита полка, на ней стояли горшки и миски, у некрашеной печи – кровать, у перекосившейся и растрескавшейся двери пристроились деревянные ведра, стянутые обручами. В углу – старый, видавший виды сундук из дубовых досок, на нем валялся ворох тряпья и драный полушубок; одежда гостя лежала тут же, у изголовья, на табурете, – вот и все, что было в доме.
За дверью замычала корова. Услышав это, крестьянин покачал головой. Увидев, что раненый пришел в себя, хозяин подсел к нему, прихватив с собою морковь, нож и миску с водой.
– Ну, вот вы и очнулись, господин. Вам лучше? – заботливо спросил он.
Лесдигьер перевел взгляд на незнакомого ему человека, сидевшего рядом с ним на низенькой табуретке. Тот был в серой рубашке из грубого полотна, рукава ее засучены выше локтя. На ногах – линялые суконные штаны, во многих местах неумело заштопанные. Обут в растрескавшиеся от времени башмаки, завязанные веревкой.
– Да, – ответил Лесдигьер. – Кто ты?
– Никто. Простой крестьянин.
– Ты здесь живешь?
– Это мой дом.
– Как я тут очутился?
– Ваша лошадь подвернула ногу и упала, потом и вы с нее свалились. Хорошо еще, что она не придавила вас.
– Где она сейчас?
– Издохла и лежит в сарае. Мы с соседом оттащили ее от дороги, кое-как погрузили на телегу и привезли сюда. На ее теле мы нашли множество ран; непонятно, как она еще вас везла. Но теперь у нас будет мясо.
– Как жаль… она спасла мне жизнь… – Лесдигьер тяжело вздохнул. – А что было потом?
– Но сначала я принес вас сюда, раздел, обмыл раны и приложил к ним холстину, пропитанную настоем трав. Вы все время бредили, что-то кричали, кого-то рвались спасать. Я уж думал, не помешались ли вы, случаем, в уме. А потом вы уснули. И проспали до утра.
– Как тебя зовут, добрый человек?
– Жан Даву.
– Как думаешь, Жан, я смогу встать?
– И не думайте, раны сейчас же откроются.
– Сколько же времени понадобится, чтобы они зажили?
– Дней десять, не меньше.
– Я не могу столько ждать. Насколько опасны мои раны, Жан? – спросил молодой гугенот.
– Опасна та, что в плече. Чуть ли не сквозная. Клинок порезал кость. Мне случалось лечить такие раны, когда зверь рвал мясо, ломая кости.
– И что же?
– Выживали. А уж вы-то и подавно. Молодой, крепкий – видно, что не барского покроя.
– Действительно, я с юга, у моего отца замок и крестьяне. Там кругом деревни. Как ты узнал?
– Говорите просто. Руки не белые, грубые, знакомые с работой. На щеках хоть слабый, но румянец – не от пудры и помад, а от здоровья. В королевских дворцах такого не наживешь.
– Это верно.
– Лежите, ваша милость. Вам надо лежать. Видно, здорово вам вчера досталось.
– Не одному мне.
– Знаю. Слухом земля полнится.
– Кого же ты осуждаешь?
– Никого. Кто вас разберет, дворян, за что вы воюете. Нам, крестьянам, это ни к чему. Но раз вы добрый и простой человек, значит, ваша была правда, так я скажу.
– А вера?
– Какая мне разница, чьей вы веры, ведь не сарацин же. Богу сверху виднее, и коли Он вам помог, прислав меня в ту минуту, когда вы упали с лошади, значит, ваша вера Ему угодна.
– Спасибо, Жан. Как, оказывается, просто.
– Я почищу морковь, хотя не обессудьте, что ее мало. Урожай был плох. Да церковь забрала, да сборщики приехали… Коли не припрятал бы…
– Кто еще с тобой живет, Жан?
– Я один. Все умерли.
И больше ни слова. Значит, не хотел говорить. Допытываться Лесдигьер не стал.
– Чем ты живешь?