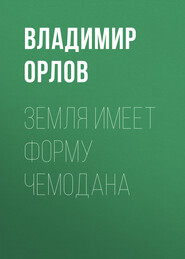По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Аптекарь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В каком смысле? – насторожился дядя Валя.
– А в таком, что, может быть, она старается реализовать стремления каждого из нас к идеалу, пусть и неосознанные стремления, а мы недовольны, сопротивляемся ей и сами отказываемся от себя.
Дядя Валя задумался. Потом сказал:
– Знаешь что. Какая у меня есть судьба, такая и есть. И нечего ей в мою судьбу лезть. И без нее хватало войн и прочих обстоятельств.
– Однако же вы досадуете, что пять лет назад, когда жена еще не ушла от вас, Любовь Николаевна не вылезла из бутылки…
– А тебе-то что? – взглянул дядя Валя на меня с подозрением.
Расстались мы с дядей Валей, как бы стыдясь друг друга. Поговорить-то мы поговорили, обсудили свое житье и Любовь Николаевну; возможно, и выглядели теперь воителями, дядя Валя тот и вовсе мог вызвать мысли о генерал-губернаторе графе Палене, задумавшем истребить несносного императора в Михайловском замке. Но, расставаясь, мы опять спешили угодить в ярмо. Я понесся к столу, на котором неизбежно должны были возникнуть пять тетрадей. Дяде Вале, наверное, выходило теперь думать уже не о шестистах четырнадцати процентах, а о полных семистах. Чему еще, кроме стекла, предстояло пострадать в его автобусе?
Через неделю, когда вновь пришло ощущение, что гнет Любови Николаевны ослаб, я нашел Каштанова.
– Ты где сейчас трудишься? – спросил я Игоря Борисовича.
Оказалось, что все в том же строительном управлении. Но и еще в одном месте.
– А конь твой жив? Или кобыла…
И кобыла Игоря Борисовича, или конь, или мерин, во всяком случае – лошадь, жила и по-прежнему квартировала во дворе в гараже. Три брата, всадники из Кабарды, ее с собой не увели, а ведь могли использовать в дороге как сменное животное. Но опять же – почему Любовь Николаевна в день похищения братьями Нагимы не оберегла интересы Игоря Борисовича? Или именно оберегла?
Ни о бывшей молодой жене Нагиме, ни об известной в Останкине женщине Татьяне Панякиной, ударившей на наших глазах Игоря Борисовича туфлей по чистой щеке, Каштанов сам говорить не стал, я же о них не спросил. И все же он, видно, что-то хотел открыть мне, вот-вот намерен был начать рассказ, но не отважился. Или боялся, или стыдился чего-то.
Все же из новых и как бы нечаянных реплик Каштанова я понял, что Любовь Николаевна преобразила его существование. Но что это за преобразования, знать мне не было дано. Понял я, что Игорь Борисович в своих чувствах к Любови Николаевне не столь тверд и воинствен, как, скажем, дядя Валя. Сомнения терзали тонкую натуру Игоря Борисовича. Он и прежде склонен был топтаться на перепутьях. Опека Любови Николаевны, возможно, и тяготила Каштанова, но, возможно, и была ему сладка. Когда я спросил: «Что делать будем с Любовью Николаевной?» – он лишь пожал плечами.
С Серовым и Филимоном Грачевым встретиться мне не удалось. О Филимоне Грачеве я все же кое-что услышал. Каким он был, таким и остался. Хотя и не совсем. В гиревом спорте он словно бы перешел из третьеразрядника в мастера международного класса. Теперь и по ночам крестился двухпудовиками и рвал на грудь штанги. На заводе «Калибр», в случае нужды и когда запаздывали краны, при толпах глазевших поднимал станки. Достал Энциклопедический словарь и выучил его наизусть. Если просили, мог подолгу произносить тексты из него страницу за страницей. Покончив со словарем, Филимон записался в районную библиотеку, часами сидел там с томами двух последних изданий Большой Советской Энциклопедии. Изучал и энциклопедии специальные – медицинские, географическую, литературную, музыкальную. Досадовал на то, что они краткие. Успехи его образования были очевидны – иные кроссворды, даже такие сложные, какие преподносятся народу «Гудком» и «Лесной промышленностью», он разносил за две-три минуты. Выходило, что над Филимоном Любови Николаевне и не слишком много пришлось трудиться. Она лишь подчеркнула особенности его личности, усилила их проявления. Причин для огорчений, видимо, у Филимона не было.
Интересовало меня, случилось ли что удивительное в жизни останкинских бузотеров Шубникова и Бурлакина. Но нет, никто из моих собеседников о них ничего не слышал. То ли они притихли. То ли успокоились.
А вот встретиться с Михаилом Никифоровичем я никак не мог отважиться. Все чувствовал себя виноватым перед ним. Но надо, надо было зайти к нему… И отчего-то тянуло увидеть Любовь Николаевну. Поздороваться с ней и взглянуть ей в глаза… Смутил меня однажды дядя Валя. Мы оказались вместе с ним в вагоне метро. Потом шли от станции к своим домам. Дядя Валя молчал. Лишь у ветеринарной лечебницы, когда мы уже пожали руки друг другу, он сказал:
– Одному-то мне с ней не справиться. Придуши-ка ее в одиночку! Вы-то все – в сторонку!
– И Михаил Никифорович?
– Михаил Никифорович только мешать будет. Влюбился, похоже, в нее Михаил Никифорович.
– Чепуха какая! Она же…
– Что ей стоит околдовать кого хочешь! Она же ведьма!
– Прежде вы такого не говорили…
Дядя Валя лишь махнул рукой. И пошел к себе.
17
Видимо, дядя Валя что-то знал. Вряд ли бы он, не имея оснований или хотя бы подозрений, мог позволить себе сказать эдакое о Михаиле Никифоровиче. При всех фантазиях и полетах мысли дядя Валя обычно был деликатен и почти никогда не касался роковых или легкомысленных чувств своих знакомых, знаменитых и безвестных. А тут такое откровение!
Однако и поверить дяде Вале я не хотел. Это Каштанов, временами мечтатель и романтик, да и в летящие дни человек ветреный, смог бы вообразить нечто, окунуться в грезы или музыку, уверить себя в том, что он увлечен кашинской легкокрылой берегиней, но Михаил Никифорович, крестьянский сын, способен был, полагал я, отличить пшеничное зерно от пуха…
Размышляя так, я столкнулся на Звездном бульваре с Шубниковым. Шубников шел мрачный.
– Что с тобой? – спросил я.
– Этот идиот Бурлакин… – начал Шубников.
Оказалось, что этот идиот Бурлакин, чье тело так и не выпустило совсем галогены серебра, поймал сачком, а может быть трусами, в Останкинском пруду годовалого ротана. Бурлакин посчитал, что сазан, доставленный с низовьев Волги летчиком Германом Молодцовым и проживающий в ванне Шубникова, скучает и ему необходим собеседник и друг. Не посоветовавшись с Шубниковым, а как бы готовя сюрприз, он подпустил ротана к большой и миролюбивой рыбе. Энциклопедически образованный Филимон Грачев, коли бы его спросили, объяснил бы, что ротан – особь из породы окунеобразных, заезжая с Дальнего Востока, в просторечье – головешка. Так вот эта головешка за ночь съел сазана. Сожрал, не оставив ни костей, ни жабр, ни чешуи. При этом нисколько не увеличился в размерах. А в сазане уже было девять килограммов. Шубников его холил и лелеял, угощал размоченными в квасе пряниками, квашеной капустой, нюхательным табаком, иногда наливал в ванну до стакана портвейна «Кавказ», связывая с сазаном планы покорения Птичьего рынка. И вот такая оказия!
Бурлакин каялся, но сазана-то вернуть он был не в силах! Бурлакин предлагал казнить ротана и им, испеченным в сметане, заесть напиток, но ротан, подлец, все понимал и ни в руки, ни в сачок не давался. В Останкинском пруду под башней ротан, видимо, жил впроголодь, теперь сжирал все, что Шубников по глупости или будучи находясь оставлял в ванной комнате. Выпрыгивал из воды и проглатывал зубные щетки, мыло, мыльницы, флаконы дезодоранта. Шубников остался без полотенец и без потрепанного, но любимого халата. Ротан сгрыз подставку из стальной проволоки, над которой крепилось зеркало, и теперь покусывал и само зеркало. При сазане из уважения к тихой рыбе Шубников не пользовался ванной, но и нынче, при ротане, ему приходилось мыться в Астраханских банях, вот до чего дошел. Сейчас он возвращался из Астраханских бань.
– Найди покупателя, – предложил я.
– Кому нужна эта мелочь! Он жрет, но не растет!
Шубников сплюнул и пошел дальше.
Он не поинтересовался останкинскими новостями. И о Любови Николаевне не спросил. Видно, ротан был отловлен Бурлакиным и впрямь каверзный и эгоистичный. Впрочем, дурные обстоятельства жизни Шубникова не слишком опечалили меня.
А я, не дойдя до дома, свернул на улицу Цандера и потом дворами выбрался на Королева к жилищу Михаила Никифоровича.
Михаил Никифорович открыл мне дверь, пригласил в кухню. Возле ванной в коридоре стояла собранная раскладушка. Дверь в комнату, где когда-то проживал Михаил Никифорович, была закрыта, и, как мне показалось, Михаил Никифорович взглянул на эту дверь с неприязнью. Никаких вещей Любови Николаевны я не увидел, но женщина в квартире Михаила Никифоровича несомненно жила. Или хотя бы ночевала.
– А что она… эта… – помолчав, начал было я, но отчего-то шепотом и сам шепота устыдился.
– Ее нет, – сказал Михаил Никифорович.
– Совсем нет?
– Сейчас нет.
– Слушай, а ведь наверняка ты надышался этой химической дряни именно из-за Любови Николаевны. Не явись она, не ушел бы ты на завод.
– Мне сорок, я взрослый и сам за себя в ответе.
– Все мы взрослые… И должна ли быть при нас Любовь Николаевна?
Да, мы взрослые и сами за себя в ответе… Однако возникают на моем столе пять тетрадей. И били стекла автобуса Валентина Федоровича Зотова.
– Дядя Валя, похоже, терпеть более не может…
– Знаю, – сказал Михаил Никифорович.
– Ну и как?
– Ну и никак.
– А в таком, что, может быть, она старается реализовать стремления каждого из нас к идеалу, пусть и неосознанные стремления, а мы недовольны, сопротивляемся ей и сами отказываемся от себя.
Дядя Валя задумался. Потом сказал:
– Знаешь что. Какая у меня есть судьба, такая и есть. И нечего ей в мою судьбу лезть. И без нее хватало войн и прочих обстоятельств.
– Однако же вы досадуете, что пять лет назад, когда жена еще не ушла от вас, Любовь Николаевна не вылезла из бутылки…
– А тебе-то что? – взглянул дядя Валя на меня с подозрением.
Расстались мы с дядей Валей, как бы стыдясь друг друга. Поговорить-то мы поговорили, обсудили свое житье и Любовь Николаевну; возможно, и выглядели теперь воителями, дядя Валя тот и вовсе мог вызвать мысли о генерал-губернаторе графе Палене, задумавшем истребить несносного императора в Михайловском замке. Но, расставаясь, мы опять спешили угодить в ярмо. Я понесся к столу, на котором неизбежно должны были возникнуть пять тетрадей. Дяде Вале, наверное, выходило теперь думать уже не о шестистах четырнадцати процентах, а о полных семистах. Чему еще, кроме стекла, предстояло пострадать в его автобусе?
Через неделю, когда вновь пришло ощущение, что гнет Любови Николаевны ослаб, я нашел Каштанова.
– Ты где сейчас трудишься? – спросил я Игоря Борисовича.
Оказалось, что все в том же строительном управлении. Но и еще в одном месте.
– А конь твой жив? Или кобыла…
И кобыла Игоря Борисовича, или конь, или мерин, во всяком случае – лошадь, жила и по-прежнему квартировала во дворе в гараже. Три брата, всадники из Кабарды, ее с собой не увели, а ведь могли использовать в дороге как сменное животное. Но опять же – почему Любовь Николаевна в день похищения братьями Нагимы не оберегла интересы Игоря Борисовича? Или именно оберегла?
Ни о бывшей молодой жене Нагиме, ни об известной в Останкине женщине Татьяне Панякиной, ударившей на наших глазах Игоря Борисовича туфлей по чистой щеке, Каштанов сам говорить не стал, я же о них не спросил. И все же он, видно, что-то хотел открыть мне, вот-вот намерен был начать рассказ, но не отважился. Или боялся, или стыдился чего-то.
Все же из новых и как бы нечаянных реплик Каштанова я понял, что Любовь Николаевна преобразила его существование. Но что это за преобразования, знать мне не было дано. Понял я, что Игорь Борисович в своих чувствах к Любови Николаевне не столь тверд и воинствен, как, скажем, дядя Валя. Сомнения терзали тонкую натуру Игоря Борисовича. Он и прежде склонен был топтаться на перепутьях. Опека Любови Николаевны, возможно, и тяготила Каштанова, но, возможно, и была ему сладка. Когда я спросил: «Что делать будем с Любовью Николаевной?» – он лишь пожал плечами.
С Серовым и Филимоном Грачевым встретиться мне не удалось. О Филимоне Грачеве я все же кое-что услышал. Каким он был, таким и остался. Хотя и не совсем. В гиревом спорте он словно бы перешел из третьеразрядника в мастера международного класса. Теперь и по ночам крестился двухпудовиками и рвал на грудь штанги. На заводе «Калибр», в случае нужды и когда запаздывали краны, при толпах глазевших поднимал станки. Достал Энциклопедический словарь и выучил его наизусть. Если просили, мог подолгу произносить тексты из него страницу за страницей. Покончив со словарем, Филимон записался в районную библиотеку, часами сидел там с томами двух последних изданий Большой Советской Энциклопедии. Изучал и энциклопедии специальные – медицинские, географическую, литературную, музыкальную. Досадовал на то, что они краткие. Успехи его образования были очевидны – иные кроссворды, даже такие сложные, какие преподносятся народу «Гудком» и «Лесной промышленностью», он разносил за две-три минуты. Выходило, что над Филимоном Любови Николаевне и не слишком много пришлось трудиться. Она лишь подчеркнула особенности его личности, усилила их проявления. Причин для огорчений, видимо, у Филимона не было.
Интересовало меня, случилось ли что удивительное в жизни останкинских бузотеров Шубникова и Бурлакина. Но нет, никто из моих собеседников о них ничего не слышал. То ли они притихли. То ли успокоились.
А вот встретиться с Михаилом Никифоровичем я никак не мог отважиться. Все чувствовал себя виноватым перед ним. Но надо, надо было зайти к нему… И отчего-то тянуло увидеть Любовь Николаевну. Поздороваться с ней и взглянуть ей в глаза… Смутил меня однажды дядя Валя. Мы оказались вместе с ним в вагоне метро. Потом шли от станции к своим домам. Дядя Валя молчал. Лишь у ветеринарной лечебницы, когда мы уже пожали руки друг другу, он сказал:
– Одному-то мне с ней не справиться. Придуши-ка ее в одиночку! Вы-то все – в сторонку!
– И Михаил Никифорович?
– Михаил Никифорович только мешать будет. Влюбился, похоже, в нее Михаил Никифорович.
– Чепуха какая! Она же…
– Что ей стоит околдовать кого хочешь! Она же ведьма!
– Прежде вы такого не говорили…
Дядя Валя лишь махнул рукой. И пошел к себе.
17
Видимо, дядя Валя что-то знал. Вряд ли бы он, не имея оснований или хотя бы подозрений, мог позволить себе сказать эдакое о Михаиле Никифоровиче. При всех фантазиях и полетах мысли дядя Валя обычно был деликатен и почти никогда не касался роковых или легкомысленных чувств своих знакомых, знаменитых и безвестных. А тут такое откровение!
Однако и поверить дяде Вале я не хотел. Это Каштанов, временами мечтатель и романтик, да и в летящие дни человек ветреный, смог бы вообразить нечто, окунуться в грезы или музыку, уверить себя в том, что он увлечен кашинской легкокрылой берегиней, но Михаил Никифорович, крестьянский сын, способен был, полагал я, отличить пшеничное зерно от пуха…
Размышляя так, я столкнулся на Звездном бульваре с Шубниковым. Шубников шел мрачный.
– Что с тобой? – спросил я.
– Этот идиот Бурлакин… – начал Шубников.
Оказалось, что этот идиот Бурлакин, чье тело так и не выпустило совсем галогены серебра, поймал сачком, а может быть трусами, в Останкинском пруду годовалого ротана. Бурлакин посчитал, что сазан, доставленный с низовьев Волги летчиком Германом Молодцовым и проживающий в ванне Шубникова, скучает и ему необходим собеседник и друг. Не посоветовавшись с Шубниковым, а как бы готовя сюрприз, он подпустил ротана к большой и миролюбивой рыбе. Энциклопедически образованный Филимон Грачев, коли бы его спросили, объяснил бы, что ротан – особь из породы окунеобразных, заезжая с Дальнего Востока, в просторечье – головешка. Так вот эта головешка за ночь съел сазана. Сожрал, не оставив ни костей, ни жабр, ни чешуи. При этом нисколько не увеличился в размерах. А в сазане уже было девять килограммов. Шубников его холил и лелеял, угощал размоченными в квасе пряниками, квашеной капустой, нюхательным табаком, иногда наливал в ванну до стакана портвейна «Кавказ», связывая с сазаном планы покорения Птичьего рынка. И вот такая оказия!
Бурлакин каялся, но сазана-то вернуть он был не в силах! Бурлакин предлагал казнить ротана и им, испеченным в сметане, заесть напиток, но ротан, подлец, все понимал и ни в руки, ни в сачок не давался. В Останкинском пруду под башней ротан, видимо, жил впроголодь, теперь сжирал все, что Шубников по глупости или будучи находясь оставлял в ванной комнате. Выпрыгивал из воды и проглатывал зубные щетки, мыло, мыльницы, флаконы дезодоранта. Шубников остался без полотенец и без потрепанного, но любимого халата. Ротан сгрыз подставку из стальной проволоки, над которой крепилось зеркало, и теперь покусывал и само зеркало. При сазане из уважения к тихой рыбе Шубников не пользовался ванной, но и нынче, при ротане, ему приходилось мыться в Астраханских банях, вот до чего дошел. Сейчас он возвращался из Астраханских бань.
– Найди покупателя, – предложил я.
– Кому нужна эта мелочь! Он жрет, но не растет!
Шубников сплюнул и пошел дальше.
Он не поинтересовался останкинскими новостями. И о Любови Николаевне не спросил. Видно, ротан был отловлен Бурлакиным и впрямь каверзный и эгоистичный. Впрочем, дурные обстоятельства жизни Шубникова не слишком опечалили меня.
А я, не дойдя до дома, свернул на улицу Цандера и потом дворами выбрался на Королева к жилищу Михаила Никифоровича.
Михаил Никифорович открыл мне дверь, пригласил в кухню. Возле ванной в коридоре стояла собранная раскладушка. Дверь в комнату, где когда-то проживал Михаил Никифорович, была закрыта, и, как мне показалось, Михаил Никифорович взглянул на эту дверь с неприязнью. Никаких вещей Любови Николаевны я не увидел, но женщина в квартире Михаила Никифоровича несомненно жила. Или хотя бы ночевала.
– А что она… эта… – помолчав, начал было я, но отчего-то шепотом и сам шепота устыдился.
– Ее нет, – сказал Михаил Никифорович.
– Совсем нет?
– Сейчас нет.
– Слушай, а ведь наверняка ты надышался этой химической дряни именно из-за Любови Николаевны. Не явись она, не ушел бы ты на завод.
– Мне сорок, я взрослый и сам за себя в ответе.
– Все мы взрослые… И должна ли быть при нас Любовь Николаевна?
Да, мы взрослые и сами за себя в ответе… Однако возникают на моем столе пять тетрадей. И били стекла автобуса Валентина Федоровича Зотова.
– Дядя Валя, похоже, терпеть более не может…
– Знаю, – сказал Михаил Никифорович.
– Ну и как?
– Ну и никак.