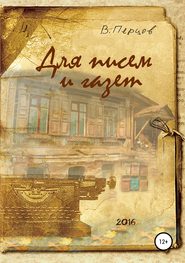По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний закон Ньютона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дора Львовна колотит по клавишам, тупой Макеев гудит, хор тоже старается, особенно девочки. Сам Сталин находится тут же – на заднике сцены стоит огромный его портрет у кремлевского стола с курительной трубкой в руке. Сталин строго наклонил голову, словно прислушиваясь к хору, а сам, наверное, думает: достаточно ли хорошо они произносят букву «р»; не напрасно ли он, Сталин, не спит ночами и думает о них – нашей подрастающей смене? Не подведут ли, если завтра война, значит, завтра в поход?! Так думает Мотя, поглядывая на великого Сталина. Он уже почти успокоился и знает, что Сталин нисколько не строг, разве что для врага, а если на него долго смотреть, он начинает улыбаться мудрой сталинской улыбкой. Когда в прошлом году портрет установили, они с Сережей Погосским нарочно бегали в зал, поднимались на полутемную сцену и долго, со сладостным ужасом смотрели в лицо Вождя, пока лицо не начинало шевелиться. Сначала двигались усы, потом рот под усами, потом жмурились глаза… «Начинает, видишь, – толкал Сережа застывшего Мотю, – вот уже начал!» – «Вижу», – шептал Мотя. Они какое-то время неподвижно глядели на оживающий портрет, затем с ужасом бросались назад, чувствуя холод в спине.
Топот их ботинок громко повторял пустой гулкий зал.
Но сейчас кругом школьники и шумно, и Мотя думает, правильно жмуришься, товарищ Сталин, – какая про тебя прекрасная песня, сплошное «р»! А сейчас ты услышишь стихи про твоего железного наркома.
Тупой Макеев, наверное, тоже чувствует спиной сталинский взгляд, гудит страшным басом, вот-вот лопнет! Но, вопреки многим пожеланиям, он не лопнул, а буквально малиновый догудел песню до конца. Ему хлопали изо всех сил, ну и хору, конечно, тоже. Дора Львовна собрала ноты и, хромая на короткую ногу, ушла в кулису.
Ведущие Вадик и Света объявили: «А сейчас праздничное стихотворение прочитает Бройде Матвей, третий „б“ класс!»
Маленький Мотя выходит на ярко освещенную сцену, повторяя про себя «зоркоглазый… золко… желт… зелтогразый… зор-ркоглазый». Свет в зале не выключен, вся школа смотрит на него и его галстук; учителя, актив, сам директор Вениамин Ильич в белом кителе. Свои из третьего «б» шумят в конце зала, показывают оттуда, мол, давай, Мотька, дуй, мы с тобой!
Мотя смотрит в кулису, где разминаются пятиклассники, – следующим номером будет пирамида. Давай, командует ему оттуда вожатый Костя.
«Песня про Наркома», – хорошо начал Мотя, не забыв нажать на «р» и удивляясь, как много можно подумать сразу! Объявляя «Песню», он успел одновременно подумать, что его друг Сережа опять сидит рядом с Зинкой Бакст; что он, Мотя, замечательно сказал «пр-ро нар-ркома»; что не забыть сказать «зор-ркоглазый», а не «желтоглазый»; что на большой люстре наконец укрепили новую центральную чашку вместо битой, отчего внутри люстры видны были провода и черные патроны, а теперь не видны…
– В свер-ркании молний ты стал нам знаком, – опять хорошо начинает Мотя; он набирает воздух, для следующей строчки, но в последний момент замечает в зале Лиду, сбивается и звонко заканчивает:
– Ежов желтоглазый, зелезный нарком…
Ему бы дуть дальше, все равно никто не слышал, но тут он увидел, как старшая вожатая наклонилась, явно переспрашивая у завуча Людмилы Васильевны. Мотя помертвел. «Ой, не желтоглазый, не желтоглазый! – громко и искренне сказал он. – А как этот… как индеец!.. то есть как этот…»
Тут Мотя вовсе запутался, заплакал и убежал…
В зале послышались редкие сочувственные хлопки. Вышли бледные ведущие, объявили: «Музыкально-физкультурная постановка „Всходи, заря пионерская!“». Снова загремел рояль, мимо Моти на сцену пробежали пятиклассники, на ходу заправляя майки в длинные синие трусы.
Начиналась пирамида.
Домой Мотя пришел поздно. Возвращался кружным путем, через железную дорогу. На небе светило неяркое весеннее солнце, было почти тепло. Мотя расстегнул пальто, а шапку нес в руке. Он боялся, что тут же при всех с него снимут красный галстук, но галстук почему-то не сняли. «Это хорошо», – думал Мотя, бродя вокруг знакомого паровоза. Паровоз одиноко стоял в тупике, тихий и печальный, совсем как Катька, когда грузчики сгружают с платформы ящики, а она думает о чем-то своем лошадином, понуря голову и поджав заднюю ногу. Большие ведущие колеса на паровозе были когда-то ярко-красными, но теперь краска облупилась, из-под нее выглядывали лохмотья рыжей ржавчины. Приятно пахло землей, нагретыми шпалами и этой самой ржавчиной.
Дома, конечно, уже все знали, – Лидка доложила. Папа хотел что-то сказать, но мама остановила, сказала: «Прекрати, Леня, это же ребенок!» И отправила Мотю мыть руки.
В понедельник Мотю вызвали к директору и долго спрашивали, кто научил его назвать товарища Ежова «желтоглазым индейцем». Он честно хотел сказать про Лиду, но запутался под внимательным взглядом дяденьки, который молча сидел рядом с бледным директором и при упоминании Лиды начал что-то быстро записывать. Потом на работе вызывали Мотиного папу, потом в больнице вызвали Мотину маму.
Мама вернулась тихая и бледная.
В доме было все как обычно; репродуктор на кухне рассказывал про сев яровых на колхозных полях, потом играл «Лебединое озеро», потом рассказывал новости или частушки. Но Мотя чувствовал, что произошло что-то непосильное и все из-за него. Он старался совсем не попадаться на глаза, брал с собой Цилю и прятался под большим столом, под скатертью. Ему хотелось что-то сделать, например, стать невидимкой или умереть, в смысле сильно заболеть, чтобы родители снова сидели у его кровати, а он вдруг возьмет и выздоровеет, и они сразу заулыбаются, и они вместе пойдут на демонстрацию – как раз будет Первое мая, после сразу лето. Но папа с мамой не улыбались, а наоборот, разговаривали мало, вполголоса. При появлении Моти или Лиды замолкали. Эти недомолвки пугали Мотю сильнее всего. «Лучше бы вы меня ругали, – думал он, – или кричали, или даже лупили электрошнуром, как тетя Ганя своего Мишку». Но родители обменивались короткими напряженными фразами; папа нервничал, говорил бабушке: «Мирра Борисовна, о чем вы говорите?! Или вы читаете другие газеты?!» Бабушка говорила мамиными словами: «Успокойся, Леня, они же понимают, что это же ребенок!» – «Да, естественно! – волновалась мама. – Это же ребенок!»
Они так часто говорили «это же ребенок», что Моте слышалось, это – жеребенок! Он представлял себя жеребенком с подстриженным хвостом и короткой гривкой. Такой жеребенок в прошлом году бегал за платформой возчика Сергия. Мотя очень хотел с ним подружиться, но стеснялся, потому что не знал, как его зовут, а спросить у возчика Сергия боялся. Жеребенок бежал за платформой, а его мама, конь Катька, тревожно оглядывалась и ржала, наверное, говорила по-лошадиному, чтобы он смотрел под ноги или не попал под трамвай. А возчик Сергий хлопал Катьку по спине вожжами и хрипел: «Н-но, оглядывайся!»
Потом жеребенок перестал бегать, потому что куда-то исчез. И Мотя очень переживал, что так и не узнал, как его зовут.
И переживает до сих пор.
В четверг Мотя лег спать не раздеваясь. Накрылся с головой и напряженно оттуда прислушивался – ждал, когда все уснут. Ждать пришлось долго, Мотя сам несколько раз начинал засыпать, но вздрагивал и щипал себя за колено; а из комнаты родителей все доносились приглушенные голоса. Потом голоса смолкли, полоска света под дверью погасла. Мотя погодил еще немного, осторожно поднялся, взял кошку Цилю и пошел на кухню. Там он положил Цилю рядом на стул, развернул не начатую тетрадь в косую линейку, вытер тряпочкой чернильницу, вставил новое перо, которое берег неизвестно для чего, а оказалось, вот для чего… Было по-ночному тихо; над головой стучали ходики, под раковиной что-то негромко шелестело. От этого очень хотелось спать. Но Мотя сказал себе: «Нет!» – и начал писать, но в это время за окном что-то резко стукнуло и завозилось. Он глянул и помертвел – с улицы на него тяжело смотрели маленькие сырые плебеи; они совещались, как открыть окно, чтобы вытащить Мотю к себе. Вот они построились в пирамиду, подталкивая верхнего к форточке; он медленно лезет туда, оставляя на стекле мутный след. Вот он уже возле самой форточки, форточка начинает медленно со скрежетом открываться. Мотя кинулся бежать – и проснулся. В кухне по-прежнему было тихо и пусто; с улицы доносился удаляющийся скрип последнего трамвая. Мотя потряс головой и толкнул Цилю. Циля раскрыла один глаз и мирно замурлыкала. Мотя осторожно покосился на черное ночное окно. Ночью снова подморозило, пошел снег, у окна реяли большие снежинки. Они подлетали к стеклу, большие и холодные, на миг задерживались и резко брали вправо или вниз, исчезая в темноте навсегда. «И совсем не страшно», – сказал себе Мотя, с трудом оторвав взгляд от снежинок. Он разгладил лист ладонью, обмакнул перо в чернила и стал прицеливаться, где поставить первую букву. Он долго целится, но никак не решится. Тем более что ему нужно так много рассказать! Что он это совсем не нарочно, и что папа с мамой его ничему такому не учили, даже странно! А еще про бабушку и тетю Раю-инвалида; и что Сережа Погосский от него пересел к Эдьке, так это его родители заставили, Сережа сам ему, Моте, сказал, а сам тайком подарил ему карандаш со стиркой. Что у него, у Моти, всего две четверки за четверть, но легкие, одна по физкультуре и одна по чистописанию; он их обязательно исправит – папа обещал ему за это сигнальный фонарик. А еще они всем классом снова собираются летом поехать на пароходе по Волге, а лето все не наступает… Тихо. Стучат ходики. Рядом Циля поет свою однотонную убаюкивающую песню, состоящую из сплошной буквы «р»: тр-р-р-р – тр-р-р-р; тр-р-р-р – тр-р-р-р… Мотя видит большую реку Волгу; по Волге плывет белый пароход с нарядной трубой; а на высоком берегу стоит город без окон, и это совсем не страшно, потому что город совсем пуст, и кто будет смотреть в эти окна – конечно, никто. Но, оказывается, там кто-то есть и много: вот промелькнуло что-то сырое с длинными глазами. Мотя хочет испугаться, но чувствует рядом с собой что-то большое и надежное. Оказывается, это конь Катька. Катька удивительно похожа на маму и говорит маминым же голосом: «Не бойся, это жеребенок!» Мотя и не боится, потому что уже тепло и лето; а еще он радуется, что наконец узнал, как зовут жеребенка. Жеребенка зовут Мотька; он уже вырос, скачет, летит стрелой вдоль пустой улицы: «Мама, мама, смотри, как я умею!» А мама – такая смешная – смотрит на него тревожными глазами и тихо кричит: «Осторожней, сынок, там может быть раскрытый люк…»
В кухне тихо, в окно бьется и негромко шуршит запоздалая метель, стучат ходики, Циля мурлычет свою песню: тр-р-р – тр-р-р-р, тр-р-р-р – тр-р-р-р-р. Она делает это все реже и реже, все с большими паузами: тр-р-р… тр-р… тр-р-р.
Вот замолкла совсем.
Крайний случай
Часть первая, рассказанная автором
У автора есть хорошая знакомая Людмила Григорьевна Сосновская, дочь своего папы. И, естественно, мамы. Она работает в районной больнице, и она же мать всех детей в округе. Она удивительный человек, и автор гордится дружбой с ней. А еще любит слушать, как она рассказывает про свои медицинские приключения. Из них можно было бы составить занимательнейшую книгу.
Принесли в реанимацию человека в белой горячке, буйного. Привязали к кровати, обтыкали капельницами. Успокоился. А я на дежурстве. Только задремала, когда вбегает реанимационная сестра, кричит: «Людмила Григорьевна, ой! И убегает!» Я первым делом смотрю – три часа ночи! Думаю, ты не могла, дрянь, хоть бы в полчетвертого ойкнуть! А сама уже бегу в реанимацию и что там вижу?! Этот гад порвал привязки, стоит посреди палаты страшный, иголки из рук торчат, из носа трубка, голый и почему-то черный! Думаю, ну не сволочь ты, не мог еще часик полежать, не знаешь, у меня какой день был! Так разозлилась! А он стоит, глаза красные, и не моргает, главное. Но эти-то глаза меня и спасли. Я вспомнила, что такие глаза бывают у быков, и еще вспомнила, как наш зоотехник дядя Коля совал быку два пальца в ноздри и валил его на землю. Я это все вспоминаю, а сама к нему иду, а страшно, плюс у меня девки за спиной натурально верещат. И вот я иду к этому эфиопу от другого слова, приговариваю, как дядя Коля: «Тихо, тихо, тихо», – потом ему пальцы в нос да как дерну! Со страхом дергала, думала, нос ему оторву. Ничего, лег, как лист! «Вяжите, – говорю, – крепче, лентяйки, а я пойду досплю…»
Надо сказать, что сама Людмила Григорьевна ростом полтора метра вместе с прической….
Продолжение первого рассказа, рассказанного автором
Когда у человека много бабушек, это нужно перетерпеть.
Когда у многих бабушек один внук – это еще хуже. Говорят, что даже самые твердые из них – руководители взрывных работ или судебные приставы – при виде своего эксклюзивного внука превращаются в сироп и пастилу, чем окончательно добивают подрастающее поколение.
Итак, однажды бабушка Людмила оставила своего родного внука Костю в деревне на попечение своей же родной матери. То есть она подкинула прабабушке ее правнука и отчалила. Надо сказать, что Людина мама отнюдь не тянула на прабабушку, и не столько числом лет, сколько живостью характера. Зная это и зная бойкий нрав внука Костика, баба Люда приказала прабабушке Лене: «Мама, смотри мне!» Сказав эти веские слова и помахав для убедительности пальчиком, она уехала в город заниматься своим ремеслом – резать живых людей в хирургическом отделении районной больницы.
Что же касается родных родителей этого внука-правнука, то где они были в тот момент, куда их задуло ветром молодости, не важно, к делу не относится.
Получив приказание «смотреть» прабабушка Лена постирала занавески на окнах, подкинула кроликам овса, завязала свежую косынку и приступила к возложенным обязанностям. То есть достала из буфета колоду карт и начала учить внука в «дурака». В результате ровно через три дня ребенок перестал спрашивать про компьютер, еще через день первый раз попытался побить бабушкиного туза ординарной девяткой. Будучи уличенным, долго удивлялся, задумчиво приговаривая: «Надо зе, это плослый лаз козыли были целви, а я думал – сейцас!» При этом прабабушка Лена регулярно звонила дочери – бабушке, докладывала о состоянии внука, их общем самочувствии и о погоде на завтра. Звонила она по вдохновению: утром, когда у внука шатался зуб, вечером, когда зуб не шатался, ибо его вырвали ниткой, привязанной к ручке двери; когда у него болел живот, когда живот, слава богу, болел слабже, ибо внук полез на чердак, откуда и свалился с лестницы. И все в таком духе. А могла и просто позвонить под утро, когда им с правнуком по-стариковски не спалось. Бабушка Людмила радовалась их общим успехам, а если, допустим, у внука болело ухо или он ухватился за горячий утюг, она давала квалифицированные врачебные советы почаще его пороть, но все же просила маму-прабабушку не звонить ей с 9 до 14, просто умоляла. «Мама, – кричала она в трубку глуховатой прабабушке, – мама, ты в это время мне не звони, я на операции! Мама, я как сапер – мне нельзя ошибаться, будешь мне носить передачи!» – «Чего?! – кричала в ответ прабабушка Лена. – Константин, на, послушай, что там твоя бабушка такое кричит, что трубку взять стыдно!» Внук солидно брал трубку и солидно переводил прабабушке Лене.
– Бабуска Лена, – говорил он, пытаясь незаметно сбросить в отбой лишние карты, – бабуска Люда говолит, цтобы ты утлом ей не звонила! Она на опелации, только в клайнем слуцае, а то она мозет зарезать!
– Мама, повтори! – кричала бабушка Люда.
– Повторяю, дочка! – кричала в ответ прабабушка Лена. – Не кричи на мать! А звонить я тебе не буду с девяти до четырнадцати, даже если попросишь в письменном виде! А если звонить, то только в самом крайнем случае, чего ты не дождешься! Вешаю трубку, мы с Константином сейчас будем бить «носики», он мне должен!
Часть вторая рассказа, рассказанная бабушкой Людой
Стою я как-то утром на операции. Лето, в голове то ли давление, то ли она гудит после вчерашней посиделки у Перцовых. Плюс эта дура-сестра все время путает инструменты! Я спрашиваю: «Галя, может, ты беременная, может, у тебя токсикоз, так скажи, он на тебе сегодня же женится, прямо в обеденный перерыв, если ты, конечно, помнишь, от кого именно. И не мажь так ресницы! У тебя сквозь них уже свет в голову не проходит!..» Короче, идет плановая операция. Тут вбегает еще одна дура: «Людмила Григорьевна, вас к телефону!» Я сдержанно говорю: «Нина, меня нет к телефону! Сколько раз говорить?! А то я тебе так скажу, что больной очнется, и с нас опять снимут премию за квартал!» Нина говорит: «Людмила Григорьевна, это ваша мама, сказала – крайний случай!»
Тут у меня, конечно, все из рук падает; иду к телефону, говорю: «Нина, трубку!» Она приставляет мне к уху трубку, я говорю: «Не тем концом, дура!» хотя мне уже все равно! Мирно говорю в трубку: «Здравствуй, мама, слушаю». А сама уже простилась с Костиком, с жизнью, с будущей пенсией… Слышу в трубке голос родной матери: «Людочка, ты только не волнуйся, со мной все в порядке!» Я сдержанно говорю: «Слышу, мама, где Костик?» Она кричит: «Какой Костик?.. А, это Константин, его уже нету!» Чувствую, сзади подставляют стул, я аккуратно падаю. А эта, извиняюсь, старая… прабабушка кричит: «Людочка, ты, главное, не бери к сердцу! А то вы там на операции кого-нибудь еще зарежете, а виновата обратно буду я, тебе мало неприятностей!» Я так внимательно держу перед лицом свои руки в перчатках, думаю, вот никогда в жизни и не сносила длинных ногтей, молодость не в счет; говорю: «Мама, что с Костиком!» Она кричит: «В смысле с Константином? Так я и говорю, его уже увезли!..» Я думаю, так и молодости той было – еще короче, чем юбка, в которой я всю ее пробегала, интересно, где она сейчас. И другие подобные мысли плавают в голове, одна глупее другой… Слышу, как сквозь подушку, мать кричит: «Людмилка, ты меня там слушаешь или где?!» Я говорю: «Конечно, мама, это у меня трубка с уха сползла; Нина, ты можешь держать трубку возле уха как следует!» А зачем ей трубку держать, когда эта прабабушка так кричит, что слышат весь оперблок и второй этаж, не считая первый и улицу! Короче, вся больница, слышит, что «…приехали сватья, забрали Константина к себе, даже не спрося, отыгрался он за субботу или нет, кто же так делает, никто так не делает, а еще военный, ты меня слышишь?!» – Говорю: «Слышу, мама, продолжай». Она кричит: «Так тогда „дакай“ время от времени!» Я говорю: «Да, мама». А до самой постепенно доходит, что никого не утопило колодцем, не убило деревом, не съело лошадью, не поразило молнией, не… и вообще, надо пойти в парикмахерскую, выгнать всех, сказать: «Девки, как хотите, но чтобы через два часа я была красивая, как сами придумайте кто!» Говорю: «Нина, что ты мне вставила трубку в ухо по локоть, вынь! – Поднимаюсь, говорю: – Мама, все?!» Она кричит: «Тебе что, мало?!» Я говорю: «Мама, я же тебя просила: в самом крайнем случае!» Она кричит: «Ой! Я же совсем забыла, чего тебе звоню!» Я опять сажусь: «Мама, что еще?!.» – «Людочка, не волнуйся, но крайний случай: мы тут с Иваном Михайловичем, ну, который за меня сватается, мы самогонку выгнали, он и я! Так он, слышишь, спорит, что у него на втором выходе самогон крепче! Так я, Людочка, чего тебе сейчас звоню: ты случайно не помнишь, куда я засунула спиртометр?!»
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух!
И опыт – сын ошибок трудных…
Да мало ли что делает нам эту жизнь такой сверкающей до слез!
Мозговой штурм времен нашей молодости
Итак, художественная мастерская. Вечер. Мои друзья Давид и О. С. Кулайчук трудятся над серией с/х плакатов по технике безопасности. Время поджимает, они трудятся истово, в мастерской и ночуют. Малолетние Давидовы дети уже называют «папа» все, что движется, вплоть до соседских «Жигулей», а при редком появлении настоящего отца пугаются и ужасно писаются по ночам.
Их папа уже тоже ничего не соображает.
Сегодня они изготовляют плакат по технике безопасности при уборке сахарной свеклы. Тема: «Не подставляй ничего под движущиеся части комбайна».