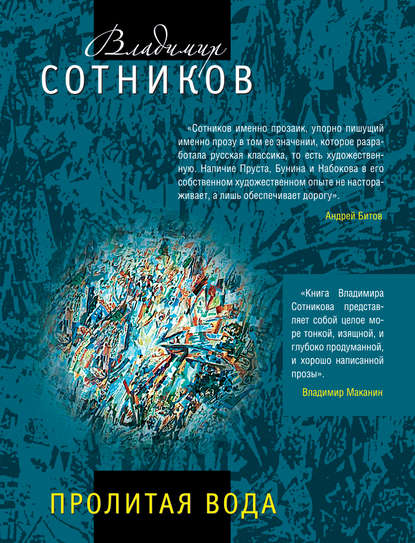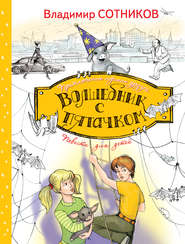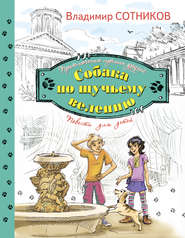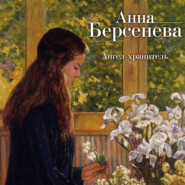По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пролитая вода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, неплохо, как переливы сна, понятно и необъяснимо одновременно. – Тенишев вдруг увидел в углу собаку и добавил почему-то: – Как грустные глаза собаки.
Даня тоже улыбнулся:
– У тебя получается говорить об одном и том же разные вещи, и все равно похоже, соглашаешься и с тем, и с другим.
Он подхватился к проигрывателю.
– Сейчас поставлю хорошую, сегодня у фарцовщика купил, называется «С меня довольно» – «Ich habe genug».
Когда кончилась мелодия, Тенишев только кивнул головой, улыбаясь: что, мол, тут скажешь.
Надо просто встречать обращенное к тебе, подумал он.
– А я сегодня квартиру искал. Даже в Подниколье забрел, надеялся комнату снять в каком-нибудь деревянном доме с садом, – неожиданно для себя сказал Тенишев.
– Ну и как, нашел?
– Да нет, просто нравилось там ходить по заросшим улочкам, пахло дымом, будто баню где-то рядом топили. Лужи разъезженные, обходишь их – за забор надо держаться, яблоки на голых уже яблонях, и несколько лип высоких на окраине, возле реки. И грусть какая-то странная, бодрая – все не можешь вздохнуть на полную грудь – как в этой мелодии.
Тенишев улыбнулся, посмотрел на Даню:
– Ты что-то сказал?
– Я завидую тебе: все понимаю, а боюсь, что представляю что-то вроде дачи. Ну, а квартира как?
– Да никак. Когда уже возвращался, зашел в один дом, спросить. Постучал, никто не отзывается, попробовал дверь рукой, она открылась. Темные сени, еще одна дверь – я и ее открыл. Полумрак, долго глаза привыкали, и запах – тяжелый и сырой, нетоплено. В комнате беспорядок – да нет, страшнее. На чем-то вроде кровати лежит закутанная в кучу тряпья старуха и на меня неподвижными глазами смотрит – без испуга, без выражения. Да одни глаза и виднелись, лицо тоже закутано от холода. И ясно, что старуха – не страшная, знаешь, не было того чувства, что баба-яга: глаза другие. А рядом на тумбочке, на полу навалены, разбросаны пузырьки, баночки, стаканы грязные. Я помню, что долго на это смотрел, стараясь найти что-нибудь чистое – ну, из чего она пьет, ест. Но все было одинаковое – забытое и ненужное. Я еще поздоровался и долго слышал свой голос. А старуха, наверное, один раз только и моргнула, словно доказала, что жива. Я попятился и в сенях наткнулся на кого-то, испугался. Отпрыгнул в темноте и выскочил, стою, а из сеней выходит почти такая же старуха, только разница, что ходит, и спрашивает нормальным, спокойным голосом: «Вы что-то хотели узнать?» – «Понимаете, я квартиру ищу, я не знал, что тут…» – «Ну что вы, какая здесь квартира, вы, наверное, студент?» Я кивнул. Она махнула рукой: «Там где-нибудь спросите, где дома покрепче, если кого на улице встретите, и спросите». И смотрит на меня, ждет, пока уйду. Я повернулся, пошел, она мне еще вслед сказала: «А я за Александровной ухаживаю». Я никого не встретил, да если б и встретил, то не стал бы, наверное, ни о чем спрашивать. Проходил мимо каких-то домов со светящимися окнами. Лестница там по склону оврага, помнишь, как на Секирной горе – длинная, долго поднимался. Да и не сегодня это было, несколько дней назад, это я почему-то сказал, что сегодня. Не понимаю, зачем. – Тенишев усмехнулся.
Он посмотрел на собаку, уткнувшуюся мордой под дышащий бок, и позвал ее. Собака шевельнула ухом, ждала, что позовут еще раз.
– Поставить еще что-нибудь? – спросил Даня.
– Как хочешь. Выпьем? – Тенишев глазами показал на бутылку.
– Налей, только мне немного, а я пока пластинку найду.
Зазвучала музыка, и Тенишев заметил, что в комнате уже потемнело. Он сунул под стол руку, нащупал выключатель – на полу, у самого окна, зажегся красный шар лампы. Тенишев смотрел на красный свет и чувствовал странную обиду на самого себя. Он прислушивался к музыке, стараясь вспомнить, слышал ее раньше или нет. За окном прозвенел трамвай, и было похоже, что звук этот донесся от проигрывателя, вплетаясь в общую мелодию. Тенишев вспоминал свои слова, звучание голоса, и ему казалось, что вообще он все придумал, как придумал вначале, что ходил в Подниколье сегодня.
Наверное, так получилось для того, чтоб было больше похоже. На что? – подумал он.
Даня закурил, подошел к окну.
– Фонари зажигаются, – сказал он.
– Я вот ходил эти дни по городу и не то чтобы вспоминал, а просто думал, что хочу написать об этом, – неожиданно для себя произнес Тенишев.
Казалось, что в комнате стало тихо, несмотря на музыку.
Даня оглянулся, затянулся сигаретой, молча походил по комнате. Пригубил из рюмки, и Тенишев увидел, что сам еще не выпил. Но пить не хотелось, и он взял сигарету.
Некоторое время молчали.
– Понимаешь, – вместе с дымом выдохнул Даня, – наверное, об этом нельзя написать.
– Почему?
Тенишеву показалось, что он сам сейчас и будет отвечать себе, но молчал. Машинально он нащупал спички и все не мог достать одну, ускользающую.
– Не знаю, может, я глупость говорю, я не понимаю даже до конца, но мне кажется, что об этом нельзя написать. Нельзя написать то, что по-настоящему хочешь, о чем дано лишь думать. Второй раз – нельзя. А рассказав мне, ты уже пролистал пустые страницы, и они склеились намертво.
Тенишев сидел на скамейке у станционного забора и смотрел, как высохший скрученный лист перекатывается по неровному асфальту платформы. Шумели деревья у водонапорной башни, блестели рельсы, и можно было представить, что лето вернулось сюда. Где-то звякнул велосипедный звонок, донеслись детские голоса, и Тенишев представил, что, вернувшись, опять увидит эту станцию, только совсем по-другому, словно солнце переместится по небу и станет освещать все с другой стороны. И поездка стала похожей на исполнение условия странного спора, заключенного с кем-то, и спор этот не хотелось ни выиграть, ни проиграть, а просто ждать без азарта, пока пройдет безразличное время.
5
Загудели рельсы, и через минуту проплыли первые вагоны поезда, и высунувшиеся проводницы смотрели на Тенишева. Он оглянулся и увидел, что на платформе никого больше нет.
Кассирша, глянув в окно, черкнула в билете номер вагона, что остановился напротив, и Тенишев уже через минуту шел по проходу, надеясь увидеть пустое купе.
«Как все же успокаивает дорога», – думал Тенишев, сидя в медленном поначалу поезде.
Ни о чем отдельно взятом не думалось, любое мгновенное воспоминание сразу же улетало вместе с уносимыми назад деревьями, домами, и только плывущие рядом, опадающие и взлетающие провода надолго притягивали взгляд. И странно – скорость приносила больше отдохновения, чем самый глубокий сон. Звуки освобождались от тревоги, с которой текущее время наваливалось на Тенишева, сидящего неподвижно где-нибудь в тихой комнате. Тенишев любил дорогу за этот отдых, за это безразличие, в котором гасла тревога, не умеющая набрать силу.
В пути незаметно забывается то место, к которому едешь, и о нем не думаешь так, как думал на перроне. Недавно еще ты принадлежал одновременно двум станциям и двум перронам, и в поезде незаметно теряешь эту связь. Стук колес принадлежит только себе, какое бы слово этот звук ни напоминал, в нем нет направления. Если под стук колес закрыть глаза, через минуту помчишься обратно, и будет казаться, что скорость при этом лишь увеличивается. А во сне на опадающей при раскачивании вагона полке живые картины торопят друг друга в бесконечной очередности.
И Тенишев забывал, куда и зачем он едет – да и можно ли ответить на этот вопрос?
Утром, стоя в коридоре и глядя в окно, он чувствовал себя изменившимся, как после неожиданного счастливого события, и не знал, чему он улыбается, как ребенок, поймавший на себе чужой взгляд.
Выйдя на площадь, вспоминая почти забытый запах этого города, Тенишев уже ожидал, что сейчас будет замечать перемену в домах, поворотах улиц. Всегда при возвращении в знакомые места он долго это чувствовал и словно смотрел на сдвоенное изображение, которое должно вот-вот превратиться в четкое и ясное.
Он пошел пешком, наслаждаясь радостью узнавания – «неужели вот здесь…» – радостью, не ценимой спешащими людьми. Как легко, думал он, любить жизнь даже за это несовпадение повторений, в сущности, заполняющих всю жизнь до полноты, которую ощущаешь лишь в редкие минуты. Почти все время какой-то незримый сквознячок уносит из жизни главное чувство удивления и радости, которое уплывает, оставляя обманчивое впечатление всегда неполного, грустного счастья.
В парке Тенишев сидел на скамье, глядя на воду, блестевшую под утренним солнцем, на качающиеся вверх-вниз тяжелые ветви деревьев. Здесь с Даней они как-то наблюдали детей, которые сачком вылавливали из воды рыбок, бросали их на асфальт и рассматривали, пока рыбки медленно задыхались. Тогда они долго и серьезно рассуждали о детской неосознанной жестокости, он вспомнил, как сказал тогда о сачке с рыбками «живая тяжесть», и Дане это выражение очень понравилось – он с грустью сказал: «А я ни разу не ловил рыбу».
Они потом пили, неумело таясь, сладкое вино на скамейке, и казалось, что и в воздухе, и на листьях разлит легкий сладкий привкус. В воздухе он был даже виден – розовый и неподвижный. Даня читал свои стихи, и Тенишев больше всего восхищался легкими, неуловимыми поворотами слов, вначале текущих прямо и плавно. И хотелось все виденное так же легко и незаметно повернуть вокруг своей оси, чтобы все чуть-чуть изменилось до еще большего счастья, – и он удивлялся возможности этого и какому-то странному, умирающему терпению внутри себя.
Похожее чувство было и сейчас. Тенишев находился в том состоянии, когда все, о чем так долго мечталось, сбылось само собой, без его усилий, и еще так много осталось в запасе радостного ожидания. Он вспоминал строчки стихов, которые читал тогда Даня. Казалось, что с тех слов, как с деревьев листья, слетели лишние чувства, и слова вздрогнули и распрямились в единственном своем значении. И в этом была их новая, навсегда застывающая жизнь – так осенние деревья открывают внутренний рисунок ветвей. «В воду деревья гляделись – там, где их листья остались, с ними опять в отраженье голые ветки сливались», – Тенишев чаще всего вспоминал эти строки, когда думал о Дане, и видел его лицо, отраженное в синеватой дымке неподвижной воды.
Легкий ветерок тронул воду, маленькие волны задрожали на месте, по воде побежали пятна ряби. Тенишев вдруг пронзительно и остро почувствовал, что его ждут. И не живущий реально в этом городе человек, на расстоянии нескольких остановок трамвая, а возникший в памяти, в воображении – показалось, Даня в это же мгновение почувствовал его присутствие.
Совсем недавно Тенишев начал понимать, что люди, которых он вспоминает часто, все более отличаются от самих себя и ждут, и ищут его в его же воображении, в странном мире без времени и привычного света – сквозь дымку, похожую на поверхность воды, встречает он их взгляды, и глаза стараются продлить встречу, но налетает легкий ветерок, и все пропадает под дрожащей водой.
Звуки города не изменились за год. Приглушенный в шелесте листьев отдельный стук трамвайных колес был главным в общем шуме. Тенишев пошел к мостику, под которым так же, как и раньше, переливалась вода через плотину. Взявшись руками за перила, он ощутил их внутренний глубокий гул, мгновенно соединивший его с далекими днями. Тенишев вспомнил фотографию, на которой он был снят точно на этом месте – и слушал шум воды, бесконечный и неостановимый.
Проплывали, кружась в водовороте, листья. Тенишев смотрел на свою тень, казалось, что она вот-вот сорвется течением и поплывет, растекаясь по воде, качаясь на волнах бесформенным пятном. Тенишев улыбнулся, заметив вдалеке, у поворота, торчащие наискосок удочки, к которым и поплыла бы его тень.
Он всегда завидовал людям, живущим у реки. Большая река или маленькая речушка – само по себе ее течение неподалеку от дома казалось Тенишеву необходимым дополнением к общему чувству жизни. Оно оберегало от той тоски, которой окружены одинокие дома, стоящие где-нибудь в поле. Он часто представлял себя выходящим на берег – с самого детства образ конечности жизни, какого-то окончательного края оставался неизменно таким – и смотрел над текущей водой на другую, новую землю, и даже воздух там казался иным.
Исчезновение из жизни чего-то важного, первая утрата соединилась навсегда с осушением речки, протекающей за лугом. Прямо по руслу экскаватор прокопал канаву, в которой вода медленно замерла, оставив слабый донный ручеек. Но течение все равно оставалось, и берег так же назывался берегом – речка не могла исчезнуть, пока еще живы были люди, видевшие ее прежней. Казалось, ночами она наливалась до краев, берега становились полными, и их старательно скрывал густой туман.