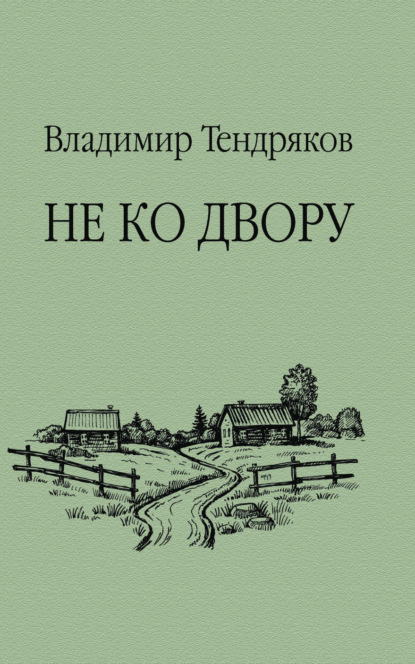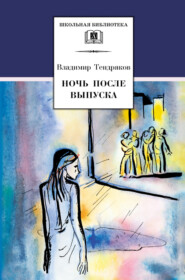По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Не ко двору
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ранние зимние сумерки поднимались над домами и садиками. Падал редкий снежок. Тихо и пусто. Огни зажигались в окнах, что ни огонек, то семья. Потому и тихо, потому и пусто на улице – все разошлись по этим огонькам. У всех семьи, у каждого свое гнездышко. Иди, Федор, к себе. Там голый стол, на столе приемник, койка в углу. Случается, и в двадцать пять лет человек чувствует себя сиротой.
19
За последний месяц Стеша почти не выходила из дому. Раньше хоть бегала на маслозавод, а тут – декретный отпуск… Четыре стены, даже кусок двора не всегда увидишь в окно, заросли стекла зимними узорами. Вчера с утра до вечера перебирала в уме тяжелые мысли. Все, казалось, передумала, больше некуда – растравила душу. Но наступал новый день – и снова те же мысли…
День за днем – нет конца, нет от них покоя…
И вот кренящиеся на раскатах сани, суховатый запах сена на морозном воздухе, заметенные по грудки снегом еловые перелесочки да радостное воспоминание о встрече в райкоме комсомола, добрые глаза, участливый голос – словно умытая, освеженная, приехала Стеша домой.
На полу валялись щепа и стружки. Посреди избы стояли громоздкие, недоделанные сани. От них шел горьковатый запах черемухи. Отец, держа топор за обух, старательно отесывал наклески. Он делал сани и занимался этим нечасто. С заказчиками, приезжавшими из дальних колхозов, договаривался заранее – не болтать лишка. Засадит еще Варвара на постоянную работу. Он будет делать, колхоз перепродавать на сторону, а платить трудоднями – велика ли выгода? Силантий Петрович только поглядел на вошедшую дочь, ничего не спросил, продолжал отбрасывать из-под остро отточенного топора тонкие стружки.
Зато мать сразу набросилась:
– Как, милая? Чего сказали?
Стеша, не снимая шубы, распустив платок, уселась на лавку и окрепшим от надежды голосом стала рассказывать все по порядку: как встретили, как ласково разговаривали, как проводили чуть ли не под ручку.
Алевтина Ивановна с радостным торжеством перебивала:
– Вот прижгут его, молодчика! Прижгут! Поделом!
Силантий Петрович бросил скупо:
– Пустое. Особо-то не надейся. Все они одним миром мазаны.
Может быть, первый раз в жизни Стеше не понравились слова отца, даже сам он в эту минуту показался ей неприятен: сутуловатый, со слежавшимися седыми волосами, угрюмо нависшим носом над узловатыми руками, зажавшими обух топора. «И чего это он?.. Все на свете для него плохо. Есть же и хорошие люди. Есть!»
– Может, и не пустое. Может, и прижгут, – неуверенно возразила мать.
– Ну и прижгут, ну посовестят, может, наказание какое придумают, а Стешке-то от этого какая выгода?
И Алевтина Ивановна замолчала. Молчала и Стеша. Маленькая, теплая радость, которую она привезла с собой, потухла.
«Десять дней сроку. Советую подумать о своем поступке». Не стоило советовать… Только в редкие минуты на работе забывался, а так с утра до вечера все думал, думал и думал. А придумать ничего не мог.
Сначала обсуждали план культурно-массовой работы на квартал, потом утверждали списки агитбригад, рассылаемых по колхозам. Федор сидел в стороне, ждал и мучился: «Скорей бы, чего уж жилы тянуть…» Наконец Нина Глазычева, сменив деловито-озабоченное выражение на строго отчужденное, громко произнесла:
– Переходим к разбору персонального дела комсомольца Федора Соловейкова.
И все лица присутствовавших вслед за Ниной выразили тоже строгость и отчуждение. Только Степа Рукавков, секретарь комсомольской организации колхоза «Верный путь», одной из самых больших в районе, взглянул на Федора с лукавым укором: «Эх, друг, до бюро дотянул…» Да еще учитель физики в средней школе Лев Захарович, свесив по щекам прямые длинные волосы, сидел, уставившись очками в стол.
– Ко мне недавно пришла жена Соловейкова… – начала докладывать Нина размеренным голосом, один тон которого говорил: «Я ни на чьей стороне, но послушайте факты…»
От этого голоса лица сидевших сделались еще строже.
Ирочка Москвина, зоотехник из райсельхозотдела, член бюро, не вытерпела, обронила:
– Возмутительно!
Нина деловито рассказала, какой вид имела Стеша, описала заплаканные глаза, дрожащий голос, сообщила, на каком месяце беременности оставил ее Федор…
– Вот коротко суть дела, – окончила Нина и повернулась к Федору: – Товарищ Соловейков, что вы скажете членам бюро? Мы вас слушаем.
Федор поднялся.
«Суть дела»! Но ведь в этом деле сути-то две: одна его, Федора, другая – Стеши, тестя да тещи. Не его, а их суть сказала сейчас Нина.
Разглядывая носки валенок, Федор долго молчал: «Нет, всего не расскажешь… У Стеши-то вся беда как на ладони, ее проще заметить…»
– Вот вы мне подумать наказывали, – глуховато обратился он к Нине. – Я думал… Назад не вернусь. Как воспитывать, не знаю. Пусть Стеша переедет жить ко мне, тогда, может, буду ее воспитывать. Другого не придумаю… С открытой душой говорю… – Он помолчал, вздохнул и, не взглянув ни на кого, сел. – Все… – Снова сгорбился на стуле.
– Разрешите мне, – вкрадчиво попросил слова Степа Рукавков и тут же с грозным видом повернулся к Федору: – Перед тобой была трудность. Как ты с ней боролся? Хлопнул дверью – и до свидания! По-комсомольски ты поступил? Нет, не по-комсомольски! Позорный факт!.. Но товарищи…
Нина Глазычева сразу же насторожилась. Она хорошо знала Степу Рукавкова. Ежели он начинает свою речь за здравие, хвалит, перечисляет достоинства, жди – кончит непременно за упокой, и наоборот – грозный разнос вначале обещает полнейшее оправдание в конце. Как в том, так и в другом случае переход совершается с помощью одних и тех же слов: «Но товарищи…» Сейчас Степа начал с разноса, и Нина насторожилась.
– Но, товарищи! Жена Соловейкова, как сообщили, была комсомолкой. Она бросила комсомол! Кто в этом виноват? А виноват и райком, и мы, старые комсомольцы, и она сама в первую очередь!..
Степа Рукавков был мал ростом, рыжеват, по лицу веснушки, но в колхозе многие девчата заглядывались на своего секретаря. Степа умел держаться, умел говорить веско, уверенно, слова свои подчеркивал размашистыми жестами.
– Нельзя валить все на Соловейкова. А тут – все, кучей!.. Виноват он, верно! Но не так уж велика вина его. Я предлагаю ограничиться вынесением на вид Федору Соловейкову.
– Невелика вина? Жену бросил! На вид! Простить, значит! Как это понимать? – Нина Глазычева от возмущения даже поднялась со стула.
– Исключить мало, – вставила Ирочка Москвина и покраснела смущенно. Она была самой молодой из членов бюро и всегда боялась, как бы не сказать не то, что думает Нина.
Поднялся спор: дать ли строгий, просто выговор или обойтись вынесением на вид? Федор сутулился на стуле и безучастно слушал.
– Не в том дело! – Учитель физики Лев Захарович давно уже поглядывал на спорящих сердито из-под очков. – Дадим выговор, строгий или простой, запишем… Это легко… У жены его – горе, у него – поглядите – тоже горе! А мы директивой надеемся вылечить.
Закидывая назад рукой волосы, Лев Захарович говорил негромким, спокойным голосом. Паренек он был тихий, выступал нечасто, но если уж начинал говорить, все прислушивались – обязательно скажет новое. Да и знал он больше других: читал лекции в Доме культуры о радиолокации, мог рассказать и об атомном распаде, и об экране стереоскопического кино. За эти знания его и уважали.
– Для чего мы собрались здесь? Только для того чтобы выговор вынести?.. Помочь собрались человеку.
– Правильно! Помочь! – бодро поддержала Нина.
– Только как? Вот вопрос, – спросил Лев Захарович. – Я, например, откровенно признаюсь – не знаю.
– Товарищ Соловейков, – обратилась Нина к Федору, – вы должны сказать: какую помощь вам нужно? Поможем!
– Помощь?.. – Федор растерянно оглянулся. Действительно, какую помощь? Стешу бы вытащить из отцовского дома. Но ведь райком комсомола ей не прикажет: брось родителей, переезжай к мужу, – а если и прикажет, Стеша не послушает. – Не знаю, – подавленно развел руками Федор.
Все молчали. Нина недовольно отвела взгляд от Федора: «Даже тут потребовать не может».
– Не знаем, как помочь, – продолжал Лев Захарович. – А раз не знаем, то и спор – дать выговор или поставить на вид – ни к чему.
– Выходит, оставить поступок Соловейкова без последствий?
Лев Захарович пожал плечами.