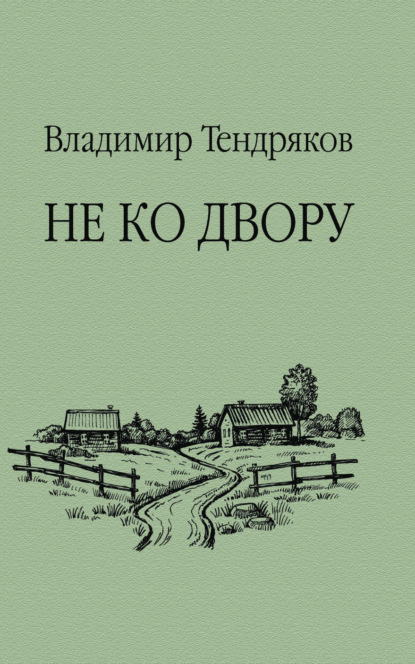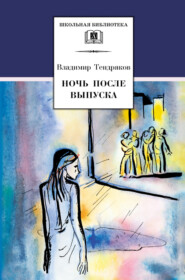По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Не ко двору
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Первый, – ответил со вздохом Федор. Он сразу же подчинился настроению этого человека.
– Видно. А я каждый год сюда заглядываю. Четвертый у меня.
Дежурная сестра вынесла вещи – пальто, шаль, фетровые ботики.
– Получите.
Незнакомец принял все это, не торопясь уложил, связал аккуратно.
– Привел жену – узелок взамен дали. До свидания… Не волнуйтесь. Обычное дело. Вам бы кого хотелось – сына или дочь?
– Сына, конечно.
– Значит, дочь появится.
– Почему?
– По опыту знаю. Девочек больше люблю, а каждый год – промах, мальчики появляются. Но и это неплохо. Народ горластый, не заскучаешь.
Еще раз ласково кивнув, он ушел. Сестра, закрыв за ним плотнее дверь, деловито спросила:
– Как фамилия?
– Соловейков… Федор Соловейков.
– Федоры у нас не рожают. Муж Степаниды Соловейковой, что ли? Эту сегодня положили… Передачу принесли, давайте мне… В целости получит.
– Не родила еще?
– Больно скоро. Идите, идите домой. Спите спокойно. Сообщим.
– Я подожду.
– Нет уж, идите. Может, трое суток ждать придется. Дело такое – ни поторопишь, ни придержишь.
Федор долго топтался под освещенными окнами родильной, прислушивался, не донесется ли сквозь двойные рамы крик Стеши. Но лишь робко скрипел снег под его валенками.
За ночь он несколько раз прибегал под эти окна, ходил вдоль стены. Было морозно, временами начинал сыпаться мелкий, сухой снежок, а Федору в мыслях представлялось солнечное летнее утро, луг, матовый от росы, цепочкой два темных следа – один от ног Федора, другой от ног сына… Они идут на рыбалку с удочками… И росяной луг, и следы на мокрой траве, и берег реки с клочьями запутавшегося в кустах тумана – все отчетливо представлял Федор. Не мог представить только самое главное – сына. Белоголовый, длинное удилище на плече, и все… Мало…
Он промерзал до костей, бежал домой, там, не зажигая огня, не раздеваясь, сидел, грелся, думал о сыне, о росяном луге, о следах, временами удивлялся, что хозяин крепко спит, а двери не запирают. Забыли, видать, это на руку – не будить, не беспокоить…
Ночь не спал, но на работе усталости не чувствовал, через час бегал к телефону, с тревожным лицом справлялся и отходил разочарованный.
Стеша родила под вечер.
Погода разгулялась. Вокруг полной луны стыли мутноватые круги. Федор шел, топча на укатанной дороге свою тень. Шел нараспашку, мороза не чувствовал.
Лицом к лицу он неожиданно столкнулся с человеком в серой мерлушковой шапке и, как старому другу, раскрыл объятия.
– А ведь правду говорили… Не сын, нет… Дочка!.. Уж я там поругался, до начальства дошел, уж настоял… Пустили, показали.
Он нагнулся к улыбающемуся доброй улыбкой лицу незнакомца и, как великое открытие, сообщил:
– Гляжу, а волосики-то рыженькие! Рыженькие волосики-то! И глаза!.. Глаза – не понять, должно быть, мои тоже. Наша порода!.. Соловейковская!
21
Во время приступов Стеша металась по койке и кричала: «Не хочу! Не хочу!» Врачи и сестры, привычные к воплям, не обращали внимания. Они по-своему понимали выкрики Стеши: «Больно, не хочу мучиться!» Но Стеша кричала не только от боли. «Не хочу! Не хочу!» – относилось к ребенку. Зачем он ей, брошенной мужем? Но принесли тугой сверточек. Из белоснежной простыни выглядывало воспаленное личико. Положили на кровать Стеше. При этом врачи, сестры, даже соседка по койке – все улыбались, все поздравляли, у всех были добрые лица. На свет появился новый человек, трудно оставаться равнодушным.
Горячий маленький рот припал к соску, до боли странное и приятное ощущение двинувшегося в груди молока, – Стеша пододвинулась поближе, осторожно обняла ребенка, и крупные слезы снова потекли по лицу. Это были и слезы облегчения, и слезы стыда за свои прежние нехорошие мысли: «Не хочу ребенка»; это были и слезы счастья, слезы жалости к себе, к новому человеку, теплому, живому комочку, доверчиво припавшему к ее груди… И все перевернулось с горя на радость.
Во время второго кормления, когда Стеша, затаив дыхание, разглядывала сморщенную щечку, красное крошечное ухо, редкий пушок на затылке дочери, она почувствовала, что кто-то стоит рядом и пристально ее разглядывает. Она подняла голову. Перед ней замер с выражением изумления и страха Федор.
Они не поздоровались, просто Федор присел рядом, с минуту томительно и тревожно молчал, потом спросил:
– Может, нужно чего?.. Я вот яблок достал… – И, видя, что Стеша не сердится, широко и облегченно улыбнулся. – Вот она какая… Дочь, значит. Хорошо.
И Стеша не возразила, – конечно, хорошо.
– Спит все время. Сосет, сосет, глядишь – уже спит.
Федор сидел недолго. Весь разговор вертелся вокруг дочери: сколько весит, что надо купить ей – пеленки, распашоночки, обязательно ватное одеяльце.
Им мешали, напоминали Федору, что он обещал на одну минуточку, сидит уже четверть часа. Федор поднялся и тут только ласково и твердо сказал:
– Никуда я тебя, Стеша, не пущу. Ко мне жить переедешь.
И почему-то в эту минуту Стеше показалось, что он даже парнем ей не нравился так – в белом, не по его плечам халате, длинные руки вылезают из рукавов, лицо озабоченное… Стеша осмелилась робко возразить:
– С ребенком-то дома бы лучше, Феденька.
Но голос Стеши был неуверенный, просящий.
На следующий день приехала мать. Стеша, похудевшая, большеглазая, с растрепанными волосами, стыдливо запахиваясь в халат, тайком выскочила к ней в приемную.
– Вот она, наша долюшка… Прогневили мы Бога-то… – завела было Алевтина Ивановна, но тут же перебила себя, сразу же заговорила деловито: – Все, что надобно, приготовила: пеленочек семь штук пошила, исподнички разные, отец люльку уже пристроил…
– Мама, – робко перебила Стеша, – я все ж к нему перейду… Зовет.
– Совесть, видать, тревожит его, а на то не хватает, чтоб повинился да пристраивался сызнова к нам.
– К нам не вернется… – И вдруг Стеша упала на плечо матери, зарыдала. – Да как же мне жить-то с ребенком без мужа? Все пальцами тыкать будут!..
– Это что такое? Кто разрешил? Что сестры смотрят? Лежать! Лежать! Не подниматься!.. Кому говорят! Идите в палату! – В дверях стояла пожилая женщина, дежурный врач родильного отделения.
Мать гладила Стешу по спутанным волосам.
– Не расстраивайся, дитятко, не тревожь себя… Иди-ка, иди. Вон начальница недовольна…