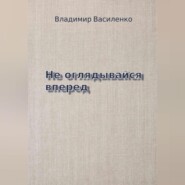По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фото
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
а ограниченности пространства, считающего меня собой.
Неужто невозможно,
чтобы все это накрывало вместе
более чем одно сердце?
К чему тогда затеянное на небесах наше сближение?
Стихи, заменяя тела,
полетели по склону, чтобы упасть в ивовую тень у реки,
проникаясь друг другом
с этим коротким вздохом: «Стоило жить…»
Если, в конце концов, нужно именно это,
пусть оно произойдет безыскусно.
Рождение, смерть, одиночество, трепет иллюзий –
не слишком ли много затей?
Старость
Старость – маскировка. Только если детство –
скрытое в тумане ровное шоссе,
старость – неожиданно близкое соседство
с тем, что не в один конец уходит, а во все.
То, что было как бы смыслом мирозданья,
помещенным в центр кремнистого пути,
обретает форму тихого страданья,
призванного в глубь пейзажа увести:
все угодней зренью, заменяя тело,
тем же навидавшимся видов стариком
прекратить осваивать полотна пределы
и приобрести картину целиком.
***
Она одна угадала мою глубину,
когда я прыгал не в высоту – в длину.
Она одна подставила так глаза,
что увернуться было никак нельзя.
Мне до сих пор подозрительна в той глубине
ее забота не о себе – обо мне.
Я до сих пор, откровенно, не верю ей,
не на словах – на деле бывшей моей.
На что она надеялась в темноте,
в которой ее единственный – черти где,
при том, что впереди – как позади,
что верь, что люби – не люби, что надейся, что жди?
Я потому и сейчас в координатах тех,
что все выходящее за эти рамки – грех,
а все умещающееся в этот предел –
наверное, не только смертных удел.
***
Ангелу со мной тяжело:
то вместо него становлюсь на крыло,
то в такую падаю бездну,
что вот-вот из виду исчезну.
Ухватить происходящего суть –
из былого в нынешнее взглянуть.