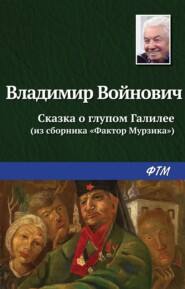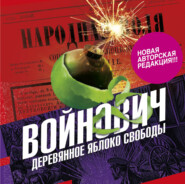По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Лицо привлеченное
Год написания книги
1979
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стою ни жив ни мертв. Существо поговорило по телефону, положило трубку, выбирается из-за стола, подкатывается ко мне на коротких ножках вплотную и разглядывает в упор. Я понимаю – игра окончена, теперь главное – твердость, спокойствие и выдержка. Теперь-то я уж кое-что успел сделать. Но все-таки, знаете, к расплате сколько ни готовься, а когда доходит до нее, то, как бы вам сказать, приятного мало. И вдруг слышу:
– Так вот он, значит, и есть тот самый легендарный Зоркий Глаз? Долго же вы от нас скрывались. Чудовищно долго. (Это его любимое слово – «чудовищно».) И что же, так вот все и действовали в одиночку?
Когда он заговорил, я как-то сразу опомнился, чувствую, что взял себя в руки, и отвечаю с вызовом, дерзко:
– Да, в одиночку.
И тут произошло нечто для меня совсем неожиданное. Лицо его расплывается в широкой улыбке.
– Видали, – кивает он тем, которые меня привели, – какой герой? В одиночку.
Вижу, и эти улыбаются благожелательно. И опять голос Лужина.
– И напрасно, – говорит, – в одиночку. Вы для нас много сделали, спасибо, конечно, но время натпинкертонов прошло, давайте действовать сообща, давайте объединим наши усилия, давайте вместе бороться за нашу советскую власть.
Я смотрю на него и понять ничего не могу. Что значит – за, я же против, это же очевидно. Дурака валяет? Смеется над жертвой? Но слышу, он спрашивает что-то уж совсем несусветное – почему я до сих пор не в партии. Не знаю, как отвечать, что-то мямлю, а он опять улыбается и сам подсказывает:
– Считаете себя недостойным?
– Да-да, – хватаюсь я за эту соломинку, – именно недостоин.
Он доволен. И эти довольны.
– Скромность, – говорит он, – конечно, украшает человека, но ведь и самоуничижение паче гордости. Так что чего уж там скромничать, вступайте, мы поможем.
Короче говоря, обласкал он меня, с ног до головы елеем обмазал. Только один раз заминка вышла. Спросил он меня про материальные дела, а я сдуру возьми и ляпни: я, мол, не за деньги, а бескорыстно.
Тут он первый раз с начала нашего разговора нахмурился. Посмотрел на меня подозрительно, и я понял: ему бескорыстные непонятны. Надо сказать, меня спасло то, что я тут же перестроился и сказал, что, вообще-то говоря, от денег отказываться не собираюсь.
– Да-да, – он радостно закивал, – мы все, конечно, трудимся не за деньги, но мы материалисты и этого не скрываем.
Он обещал мне помочь, как у них говорят, материально. И вообще много раз повторял одну и ту же фразу: «Мы поможем». А потом проводил до дверей, долго жал руку.
– Идите, товарищ Запятаев, работайте. И помните: такие товарищи, как вы, нам нужны.
Я вышел на улицу совершенно ошалелый. Еще час назад, когда они везли меня в машине, я готовился к чему угодно – к тюрьме, к пытке, к смерти, а тут… Я шел, я улыбался, как дурак, а в ушах у меня все звучало: «Такие товарищи нам нужны». Ну, думаю, если вам нужны такие товарищи…
Тут Запятаев согнулся в три погибели, схватился за живот и мелко затрясся, словно в припадке. Чонкин испугался. Он думал, с напарником что-то случилось.
– Эй! Эй! Ты что? – кричал Чонкин, хватая его за плечо. – Ты чего это, а?
– Нет, – трясся Запятаев, медленно разгибаясь и рукавом вытирая слезы. – До сих пор, как вспомню, не могу удержаться от смеха. Нет, вы представляете, – повторял он, тыча себя пальцем в грудь, – им нужны такие товарищи…
Он смеялся до икоты, до судорог, пытался продолжить рассказ, но опять давился от смеха и корчился, и опять тыкал себя пальцем в грудь, на все лады повторяя слова «такие товарищи». Потом кое-как пришел в себя и стал рассказывать дальше.
После того как он побывал у Лужина, дело его значительно облегчилось. Ему уже не надо было прибегать к таким жалким ухищрениям, как писание левой рукой и в перчатке. Теперь он открыто составлял целые списки людей, которые, по его представлению, были еще на что-то способны, и со списками не бегал к отдаленным почтовым ящикам, а смело шел Куда Надо (правда, с черного все-таки хода) и передавал написанное из рук в руки. Постепенно и на работе дела у него пошли на лад. Он вступил в партию и стал делать головокружительную карьеру. Стоило ему подняться на очередную ступеньку служебной лестницы, как уже и следующая вскоре не без его участия освобождалась. И нажимались тайные пружины, и отступали на задний план другие претенденты, и Запятаев поднимался все выше и выше.
Но чем выше он поднимался, тем чаще сталкивался с неожиданной проблемой. Язык, на котором он говорил, резко отличался от языка новых хозяев жизни.
– Вы понимаете, – размахивал он руками, – я же дворянин. Я петербуржец. Меня бонна воспитывала. Я не умел говорить по-ихому… тьфу… вот видите, а теперь отучиться не могу. А тогда у меня просто язык не поворачивался. Ну, с манерами-то было полегче. Целовать дамам ручки я отвык быстро. Не подавать пальто и первому ломиться в дверь я более или менее научился. И когда мне кто-нибудь говорил о хороших манерах, я уже вполне привычно возражал, что женщина в нашем обществе такой же равноценный товарищ и ее можно отпихивать плечом, потому что и ей позволяется делать то же самое.
С языком было хуже. Элементарные слова вроде «позвольте», «благодарю вас», «будьте добры» вызывали недоумение, на меня смотрели удивленно, и я сказал самому себе: так дальше продолжаться не может. Ты, сказал я себе, можешь сколько угодно притворяться своим среди этих людей, ты можешь делать вид, что полностью разделяешь их идеи, но, если ты не научишься говорить на их языке, они тебе до конца никогда не поверят.
И вот я, как ликбезовец, засел за учебу. О боже, какой это был тяжелый и изнурительный труд! Вы знаете, я всегда был способен к языкам. В детстве меня учили французскому и английскому. Потом я неплохо знал немецкий, болтал по-испански и даже по-фински немного читал. Но этот язык… Этот великий, могучий… Нет, вы даже представить себе не можете, как это трудно. Вот некоторые умники смеются над нынешними вождями, над тем, как они произносят разные слова. Но вы попробуйте поговорить, как они, я-то пробовал, я знаю, чего это стоит. Итак, я поставил перед собой задачу в совершенстве овладеть этим чудовищным языком. А как? Где такие курсы? Где преподаватели? Где учебники? Где словари? Ничего нет. И вот хожу я на разные собрания, заседания, партийные конференции, слушаю, всматриваюсь, делаю пометки, а потом дома запрусь на все задвижки и перед зеркалом шепотом воспроизвожу: митирилизем, импирикритизем, экпроприцея экспроприторов и межродный терцинал. Ну, такие слова, как силисиский-комунисиский, я более или менее освоил и произносил бегло, но, когда доходило до хыгемонии прилитырата, я потел, я вывихивал язык и плакал от бессилья. Но я проявил дьявольское упорство, я совершил величайший подвиг. Уже через год совсем без труда и даже почти механически я произносил килуметр, мулодежь, конкрэтно. Но иногда я употреблял такие выражения и обороты, что даже искушенные партийные товарищи не каждый раз могли сообразить, что это значит. Ну вот, например, по-вашему, что это: сисификация сызясного прызводства? Поняли?
– Не, – признался Чонкин, – не понял.
– Естественно. Это означает интенсификация сельскохозяйственного производства. Это уж высший класс. Когда я овладел этим языком в совершенстве, некоторые товарищи смотрели на меня с умилением. Иные пытались подражать, не всем удавалось. Теперь благодаря таким товарищам и новому языку передо мной все дороги были открыты. Вскоре я занял тот самый пост, с которого сбросил когда-то кого? Рудольфа Матвеевича. Я к тому времени уже женился и, между прочим, на ком? На Валентине Михайловне Жовтобрюх. И детишек завел двоих. И делал карьеру, но цели своей главной не забывал никогда. Правда, карандашик мне уже был не нужен. Я уже работал в иных масштабах. Я всех самых лучших инженеров и конструкторов прямиком отправлял к таким товарищам. Я это дело, которым руководил, разваливал, как только мог. И вы думаете меня за это схватили? Как бы не так, меня за это орденом наградили. Меня ставили в пример как проводника образцовой кадровой политики. Меня уже в Москву собирались перевести. Вот бы где я развернулся. Но тут… – Запятаев двумя руками схватился за голову и покачал ею, – тут, Иван Васильевич, я совершил такую глупость, такую глупость, что даже стыдно рассказывать. Как вы помните, меня поднял кто? Я-зык. А кто меня погубил? Я-зык. Вы знаете, не хочется продолжать. Трудно. Давайте быстренько уберем, а то придет надзиратель, орать будет.
– Да не будет, – сказал Чонкин. – Ты давай дуй дальше, а я сам, я мигом.
Он выплеснул на пол ведро воды и стал метлой гнать ее к середине.
– Ну ладно, – согласился Запятаев, – трудно, но доскажу. Так вот, – продолжал он, стараясь держаться так, чтобы Чонкин мог его видеть, – в один прекрасный день прибыл в нашу контору с инспекцией первый секретарь обкома товарищ Худобченко. Дядя на вид простоватый, ходил в вышитой украинской рубахе, говорил на том же языке, что и я, может быть, без моей виртуозности, но все-таки в этом смысле кое-чего тоже стоил. Был тоже бдительным, искал у нас шпионов, вредителей и диверсантов, нашел только двоих, я до него хорошо поработал. Товарищ Худобченко остался мной очень доволен, собрал совещание, хвалил меня, ставил другим в пример, и дело, как обычно, закончилось большой пьянкой за казенный, разумеется, счет.
Народу набилось порядочно. Пили, пели «Йихав козак на вийноньку» (любимая песня Худобченко) и плясали гопака. Публика, доложу вам, собралась отборная. Все говорили на том же языке, что и я, все занимались тем же, чем я, то есть совершенно явно и открыто наносили максимальный ущерб тому делу, которым руководили, все при этом гордились своим рабочим или крестьянским происхождением. И вдруг мне, идиоту, спьяну, что ли, померещилось, что я в тесном кругу самых интимных единомышленников, которые так же, как и я, хорошо знают, что делают. И мне вдруг захотелось их как-то раскрыть, сказать, бросьте, мол, притворяться, здесь все свои. Да если бы я так сделал, это было бы меньшей глупостью, чем то, что я сделал на самом деле. Я встал… и вот, если вы даже попробуете представить себе, какую невероятную глупость я мог сделать, если даже у вас очень развито воображение, вы будете думать три дня, но, уверяю вас, ничего подобного не придумаете. Я встал и начал… язык не поворачивается признаться… и начал читать кого? Вер-ги-ли-я! И мало того что Вергилия, но на чем? На ла-ты-ни! О боже! Конечно, я сразу понял, что совершаю что-то ужасное, я еще только начал, а вижу, что лица у моих слушателей вытянулись, они переглядываются между собой, потом на Худобченко вопросительно смотрят. Смотрю, тот тоже поначалу насупился, а потом заулыбался, поманил меня пальцем. Вот так. Как собачку. И я приблизился, виляя хвостом. А Худобченко спрашивает очень доброжелательно:
– Що це ты, интересно, такое балакал?
– Та так, – в тон ему отвечаю, – Вергилия немного балакал.
– Кого?
– Вергилия. Вы разве не узнали?
– Ни, не узнав. И на какому ж языку?
– Сам точно не знаю, – говорю, – может быть, на латинскому.
– Ого! – удивился Худобченко. – И много ж ты знаешь подобных Вергилиев?
Понимаю, что дело плохо, плету какую-то чушь, что в нашей церковно-приходской школе был учитель, он знал немного латынь и нас учил.
– То, шо он знал, – перебивает Худобченко, – это неудивительно. Он, может, из буржуев был. А вот шо ты это запомнил, шо голова у тебя так устроена, это мне непонятно. Вот вы, хлопцы, – повернулся он к остальным, – кто из вас кумекает по-латинскому?
Те молчат, но видом своим каждый дает понять, что не он.
– И я не кумекаю. Ни. Потому шо мы с вами деревенские валенки, мы знаем только, как служить нашей партии, нашей советской власти и как бороться с ихими врагами. А если и заучиваем шо наизусть, то только исторические указания товарища Сталина. А вот товарищ Запятаев, он и по-латинскому понимает, а может, и еще по-какому.
И тут все добродушие с него вмиг слетело, лицо стало жестким и холодным, как промерзший кирпич.
Я попытался исправить положение, пробовал даже и гопака сплясать, но Худобченко, посмотрев, заметил вскользь, что и гопак у меня получается «по-латинскому».
В ту же ночь меня взяли прямо из постели, допрашивал лично Роман Гаврилович Лужин, разбил нос, выбил два зуба, и вот теперь я латинский шпион.
Запятаев вздохнул, вытащил из кармана свой портсигар, угостил Чонкина «Казбеком» и сам закурил.
– Что же делать, – сказал он, – винить некого, кроме себя. А ведь как шел! Как шел! Мне бы только до Москвы добраться, а уж там бы я… В условиях военного времени я бы столько мог наворочать. Да вот промахнулся. Но я знаю, я не один. Таких, как я, много. Они везде. Днем и ночью, все вместе и каждый по отдельности, они делают свое дело, и они непобедимы, потому что никто из них никогда, ни при каких обстоятельствах не должен раскрываться. А если попадется такой дурак, как я, он должен немедленно и безжалостно уничтожаться. Чтобы никто, никогда, ничего… – Запятаев бросил папиросу, сжал пальцы в кулаки, потряс ими и хотел заплакать, но тут в дверях появился вертухай и спросил:
– Так вот он, значит, и есть тот самый легендарный Зоркий Глаз? Долго же вы от нас скрывались. Чудовищно долго. (Это его любимое слово – «чудовищно».) И что же, так вот все и действовали в одиночку?
Когда он заговорил, я как-то сразу опомнился, чувствую, что взял себя в руки, и отвечаю с вызовом, дерзко:
– Да, в одиночку.
И тут произошло нечто для меня совсем неожиданное. Лицо его расплывается в широкой улыбке.
– Видали, – кивает он тем, которые меня привели, – какой герой? В одиночку.
Вижу, и эти улыбаются благожелательно. И опять голос Лужина.
– И напрасно, – говорит, – в одиночку. Вы для нас много сделали, спасибо, конечно, но время натпинкертонов прошло, давайте действовать сообща, давайте объединим наши усилия, давайте вместе бороться за нашу советскую власть.
Я смотрю на него и понять ничего не могу. Что значит – за, я же против, это же очевидно. Дурака валяет? Смеется над жертвой? Но слышу, он спрашивает что-то уж совсем несусветное – почему я до сих пор не в партии. Не знаю, как отвечать, что-то мямлю, а он опять улыбается и сам подсказывает:
– Считаете себя недостойным?
– Да-да, – хватаюсь я за эту соломинку, – именно недостоин.
Он доволен. И эти довольны.
– Скромность, – говорит он, – конечно, украшает человека, но ведь и самоуничижение паче гордости. Так что чего уж там скромничать, вступайте, мы поможем.
Короче говоря, обласкал он меня, с ног до головы елеем обмазал. Только один раз заминка вышла. Спросил он меня про материальные дела, а я сдуру возьми и ляпни: я, мол, не за деньги, а бескорыстно.
Тут он первый раз с начала нашего разговора нахмурился. Посмотрел на меня подозрительно, и я понял: ему бескорыстные непонятны. Надо сказать, меня спасло то, что я тут же перестроился и сказал, что, вообще-то говоря, от денег отказываться не собираюсь.
– Да-да, – он радостно закивал, – мы все, конечно, трудимся не за деньги, но мы материалисты и этого не скрываем.
Он обещал мне помочь, как у них говорят, материально. И вообще много раз повторял одну и ту же фразу: «Мы поможем». А потом проводил до дверей, долго жал руку.
– Идите, товарищ Запятаев, работайте. И помните: такие товарищи, как вы, нам нужны.
Я вышел на улицу совершенно ошалелый. Еще час назад, когда они везли меня в машине, я готовился к чему угодно – к тюрьме, к пытке, к смерти, а тут… Я шел, я улыбался, как дурак, а в ушах у меня все звучало: «Такие товарищи нам нужны». Ну, думаю, если вам нужны такие товарищи…
Тут Запятаев согнулся в три погибели, схватился за живот и мелко затрясся, словно в припадке. Чонкин испугался. Он думал, с напарником что-то случилось.
– Эй! Эй! Ты что? – кричал Чонкин, хватая его за плечо. – Ты чего это, а?
– Нет, – трясся Запятаев, медленно разгибаясь и рукавом вытирая слезы. – До сих пор, как вспомню, не могу удержаться от смеха. Нет, вы представляете, – повторял он, тыча себя пальцем в грудь, – им нужны такие товарищи…
Он смеялся до икоты, до судорог, пытался продолжить рассказ, но опять давился от смеха и корчился, и опять тыкал себя пальцем в грудь, на все лады повторяя слова «такие товарищи». Потом кое-как пришел в себя и стал рассказывать дальше.
После того как он побывал у Лужина, дело его значительно облегчилось. Ему уже не надо было прибегать к таким жалким ухищрениям, как писание левой рукой и в перчатке. Теперь он открыто составлял целые списки людей, которые, по его представлению, были еще на что-то способны, и со списками не бегал к отдаленным почтовым ящикам, а смело шел Куда Надо (правда, с черного все-таки хода) и передавал написанное из рук в руки. Постепенно и на работе дела у него пошли на лад. Он вступил в партию и стал делать головокружительную карьеру. Стоило ему подняться на очередную ступеньку служебной лестницы, как уже и следующая вскоре не без его участия освобождалась. И нажимались тайные пружины, и отступали на задний план другие претенденты, и Запятаев поднимался все выше и выше.
Но чем выше он поднимался, тем чаще сталкивался с неожиданной проблемой. Язык, на котором он говорил, резко отличался от языка новых хозяев жизни.
– Вы понимаете, – размахивал он руками, – я же дворянин. Я петербуржец. Меня бонна воспитывала. Я не умел говорить по-ихому… тьфу… вот видите, а теперь отучиться не могу. А тогда у меня просто язык не поворачивался. Ну, с манерами-то было полегче. Целовать дамам ручки я отвык быстро. Не подавать пальто и первому ломиться в дверь я более или менее научился. И когда мне кто-нибудь говорил о хороших манерах, я уже вполне привычно возражал, что женщина в нашем обществе такой же равноценный товарищ и ее можно отпихивать плечом, потому что и ей позволяется делать то же самое.
С языком было хуже. Элементарные слова вроде «позвольте», «благодарю вас», «будьте добры» вызывали недоумение, на меня смотрели удивленно, и я сказал самому себе: так дальше продолжаться не может. Ты, сказал я себе, можешь сколько угодно притворяться своим среди этих людей, ты можешь делать вид, что полностью разделяешь их идеи, но, если ты не научишься говорить на их языке, они тебе до конца никогда не поверят.
И вот я, как ликбезовец, засел за учебу. О боже, какой это был тяжелый и изнурительный труд! Вы знаете, я всегда был способен к языкам. В детстве меня учили французскому и английскому. Потом я неплохо знал немецкий, болтал по-испански и даже по-фински немного читал. Но этот язык… Этот великий, могучий… Нет, вы даже представить себе не можете, как это трудно. Вот некоторые умники смеются над нынешними вождями, над тем, как они произносят разные слова. Но вы попробуйте поговорить, как они, я-то пробовал, я знаю, чего это стоит. Итак, я поставил перед собой задачу в совершенстве овладеть этим чудовищным языком. А как? Где такие курсы? Где преподаватели? Где учебники? Где словари? Ничего нет. И вот хожу я на разные собрания, заседания, партийные конференции, слушаю, всматриваюсь, делаю пометки, а потом дома запрусь на все задвижки и перед зеркалом шепотом воспроизвожу: митирилизем, импирикритизем, экпроприцея экспроприторов и межродный терцинал. Ну, такие слова, как силисиский-комунисиский, я более или менее освоил и произносил бегло, но, когда доходило до хыгемонии прилитырата, я потел, я вывихивал язык и плакал от бессилья. Но я проявил дьявольское упорство, я совершил величайший подвиг. Уже через год совсем без труда и даже почти механически я произносил килуметр, мулодежь, конкрэтно. Но иногда я употреблял такие выражения и обороты, что даже искушенные партийные товарищи не каждый раз могли сообразить, что это значит. Ну вот, например, по-вашему, что это: сисификация сызясного прызводства? Поняли?
– Не, – признался Чонкин, – не понял.
– Естественно. Это означает интенсификация сельскохозяйственного производства. Это уж высший класс. Когда я овладел этим языком в совершенстве, некоторые товарищи смотрели на меня с умилением. Иные пытались подражать, не всем удавалось. Теперь благодаря таким товарищам и новому языку передо мной все дороги были открыты. Вскоре я занял тот самый пост, с которого сбросил когда-то кого? Рудольфа Матвеевича. Я к тому времени уже женился и, между прочим, на ком? На Валентине Михайловне Жовтобрюх. И детишек завел двоих. И делал карьеру, но цели своей главной не забывал никогда. Правда, карандашик мне уже был не нужен. Я уже работал в иных масштабах. Я всех самых лучших инженеров и конструкторов прямиком отправлял к таким товарищам. Я это дело, которым руководил, разваливал, как только мог. И вы думаете меня за это схватили? Как бы не так, меня за это орденом наградили. Меня ставили в пример как проводника образцовой кадровой политики. Меня уже в Москву собирались перевести. Вот бы где я развернулся. Но тут… – Запятаев двумя руками схватился за голову и покачал ею, – тут, Иван Васильевич, я совершил такую глупость, такую глупость, что даже стыдно рассказывать. Как вы помните, меня поднял кто? Я-зык. А кто меня погубил? Я-зык. Вы знаете, не хочется продолжать. Трудно. Давайте быстренько уберем, а то придет надзиратель, орать будет.
– Да не будет, – сказал Чонкин. – Ты давай дуй дальше, а я сам, я мигом.
Он выплеснул на пол ведро воды и стал метлой гнать ее к середине.
– Ну ладно, – согласился Запятаев, – трудно, но доскажу. Так вот, – продолжал он, стараясь держаться так, чтобы Чонкин мог его видеть, – в один прекрасный день прибыл в нашу контору с инспекцией первый секретарь обкома товарищ Худобченко. Дядя на вид простоватый, ходил в вышитой украинской рубахе, говорил на том же языке, что и я, может быть, без моей виртуозности, но все-таки в этом смысле кое-чего тоже стоил. Был тоже бдительным, искал у нас шпионов, вредителей и диверсантов, нашел только двоих, я до него хорошо поработал. Товарищ Худобченко остался мной очень доволен, собрал совещание, хвалил меня, ставил другим в пример, и дело, как обычно, закончилось большой пьянкой за казенный, разумеется, счет.
Народу набилось порядочно. Пили, пели «Йихав козак на вийноньку» (любимая песня Худобченко) и плясали гопака. Публика, доложу вам, собралась отборная. Все говорили на том же языке, что и я, все занимались тем же, чем я, то есть совершенно явно и открыто наносили максимальный ущерб тому делу, которым руководили, все при этом гордились своим рабочим или крестьянским происхождением. И вдруг мне, идиоту, спьяну, что ли, померещилось, что я в тесном кругу самых интимных единомышленников, которые так же, как и я, хорошо знают, что делают. И мне вдруг захотелось их как-то раскрыть, сказать, бросьте, мол, притворяться, здесь все свои. Да если бы я так сделал, это было бы меньшей глупостью, чем то, что я сделал на самом деле. Я встал… и вот, если вы даже попробуете представить себе, какую невероятную глупость я мог сделать, если даже у вас очень развито воображение, вы будете думать три дня, но, уверяю вас, ничего подобного не придумаете. Я встал и начал… язык не поворачивается признаться… и начал читать кого? Вер-ги-ли-я! И мало того что Вергилия, но на чем? На ла-ты-ни! О боже! Конечно, я сразу понял, что совершаю что-то ужасное, я еще только начал, а вижу, что лица у моих слушателей вытянулись, они переглядываются между собой, потом на Худобченко вопросительно смотрят. Смотрю, тот тоже поначалу насупился, а потом заулыбался, поманил меня пальцем. Вот так. Как собачку. И я приблизился, виляя хвостом. А Худобченко спрашивает очень доброжелательно:
– Що це ты, интересно, такое балакал?
– Та так, – в тон ему отвечаю, – Вергилия немного балакал.
– Кого?
– Вергилия. Вы разве не узнали?
– Ни, не узнав. И на какому ж языку?
– Сам точно не знаю, – говорю, – может быть, на латинскому.
– Ого! – удивился Худобченко. – И много ж ты знаешь подобных Вергилиев?
Понимаю, что дело плохо, плету какую-то чушь, что в нашей церковно-приходской школе был учитель, он знал немного латынь и нас учил.
– То, шо он знал, – перебивает Худобченко, – это неудивительно. Он, может, из буржуев был. А вот шо ты это запомнил, шо голова у тебя так устроена, это мне непонятно. Вот вы, хлопцы, – повернулся он к остальным, – кто из вас кумекает по-латинскому?
Те молчат, но видом своим каждый дает понять, что не он.
– И я не кумекаю. Ни. Потому шо мы с вами деревенские валенки, мы знаем только, как служить нашей партии, нашей советской власти и как бороться с ихими врагами. А если и заучиваем шо наизусть, то только исторические указания товарища Сталина. А вот товарищ Запятаев, он и по-латинскому понимает, а может, и еще по-какому.
И тут все добродушие с него вмиг слетело, лицо стало жестким и холодным, как промерзший кирпич.
Я попытался исправить положение, пробовал даже и гопака сплясать, но Худобченко, посмотрев, заметил вскользь, что и гопак у меня получается «по-латинскому».
В ту же ночь меня взяли прямо из постели, допрашивал лично Роман Гаврилович Лужин, разбил нос, выбил два зуба, и вот теперь я латинский шпион.
Запятаев вздохнул, вытащил из кармана свой портсигар, угостил Чонкина «Казбеком» и сам закурил.
– Что же делать, – сказал он, – винить некого, кроме себя. А ведь как шел! Как шел! Мне бы только до Москвы добраться, а уж там бы я… В условиях военного времени я бы столько мог наворочать. Да вот промахнулся. Но я знаю, я не один. Таких, как я, много. Они везде. Днем и ночью, все вместе и каждый по отдельности, они делают свое дело, и они непобедимы, потому что никто из них никогда, ни при каких обстоятельствах не должен раскрываться. А если попадется такой дурак, как я, он должен немедленно и безжалостно уничтожаться. Чтобы никто, никогда, ничего… – Запятаев бросил папиросу, сжал пальцы в кулаки, потряс ими и хотел заплакать, но тут в дверях появился вертухай и спросил:
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0