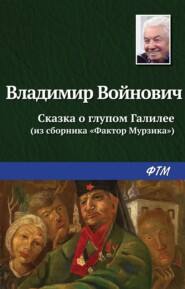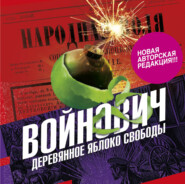По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Персональное дело
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не знаю, за кого принимал меня израильтянин, может быть, за комиссара, приставленного к Литовцеву, но он явно говорить со мной не хотел и все время поворачивался ко мне спиной, а Литовцева, несмотря на мои уверения, продолжал стыдить за то, что тот не признается в своем еврействе. Литовцев что-то мямлил в ответ, из чего было видно, что он действительно стыдится. Дети дипломата тащили его за руки, он долго сопротивлялся, но в конце концов сдался, сел в свою машину и уехал. А мы с Литовцевым пошли дальше пешком.
Я все чаще срывался и сказал старшему:
– А зачем вы спрашиваете, вы же подслушивали и сами все знаете.
– Почему это, почему это вы думаете, что мы подслушивали? – донеслось из угла.
– А откуда же вы знаете про этого израильтянина, если не подслушивали?
– Ну ладно, – сказал старший раздраженно. – Откуда знаем, оттуда знаем. А почему вы сами к нам не пришли и не рассказали?
– А почему я должен к вам приходить?
– Как это почему? Вы же советский человек?
– Да, – сказал я гордо, – советский. Но я не думал, что если я кого встретил, то тут же немедленно должен к вам бежать.
– Как же вы не думали. Вы же видите, что это провокационная сионистская пропаганда. Ну да, вы же политикой не интересуетесь. Вы интересуетесь только стихами. А какие у вас в литобъединении «Родник» стихи читают?
– В каком литобъединении? – спросил я.
– Ну как ваше объединение в институте – «Родник» называется? – спросил старший и посмотрел на младшего.
– «Родник», «Родник», – подтвердил тот авторитетно. И тут мне совсем полегчало. Я-то думал, что они действительно обо мне все знают, а оказывается, кое-чего все же не знают.
– А вы знаете, – сказал я злорадно, – что я на этом «Роднике» ни разу в жизни не был?
Тут я заметил, что мой ответ чем-то их сильно обескуражил. Старший строго посмотрел на младшего, тот как-то съежился, виновато, как мне показалось.
– И вы даже не знаете, кто староста этого кружка? – спросил старший.
– Понятия не имею, – ответил я совершенно чистосердечно.
– Ну хорошо, – смутился старший, – тогда скажите, а о чем говорят ваши профессора на лекциях?
– А вот на этот вопрос, – съехидил я (и до сих пор вспоминаю свой ответ с удовольствием), – мне бывает трудно ответить даже на экзамене.
– Почему? – не понял моей шутки старший.
– Потому, – сказал я злобно, – что если уж вы следили за мной, то должны были бы заметить, что в институте я бываю очень редко, да и то прихожу в основном за стипендией. И если бы вы проверили список у старосты нашей группы, то вы бы увидели, что против моей фамилии у него написано: не был, не был, не был.
На этом допрос закончился, но не совсем. Старший еще сказал мне, что, с одной стороны, он верит, что я настоящий советский человек, а с другой стороны, сомневается. И если я что-нибудь им не сказал или сказал не так, то я должен буду пенять на себя. И что я должен пойти еще и подумать и прийти к ним в следующий вторник.
– И заодно, – сказал он, – принесите ваши стихи. Мы почитаем, и мы вам поможем. Вы нам поможете, а мы вам поможем. А если вы нам не поможете, то пеняйте на себя.
После чего мне было предложено дать подписку о неразглашении, что я, как советский человек, сделал безропотно. А выйдя из КГБ, как советский человек, тут же побежал к своим приятелям и все рассказал. И уже от них узнал вот что.
Оказывается, не бывая в институте, я пропустил сенсацию. Староста нашего литобъединения «Родник» арестован за то, что писал антисоветские стихи. И я этого старосту знал, но не знал, что он староста. И даже знал некоторые его стихи. Однажды, прижав меня в угол, он читал мне стихи, из которых я запомнил две строчки:
…И те, кто нынче нами возвеличен,
Завтра задрожат на фонарях.
Стихи эти мне не понравились.
Будучи советским человеком, я такие стихи не любил. Будучи несоветским, не люблю тоже.
Сейчас, вспоминая эту свою первую встречу с КГБ, я думаю, какой я был невежественный в правовом отношении человек! Всякий, в ком есть хоть капля правосознания, скажет мне, что я допустил кучу элементарнейших промахов. Во-первых, еще на квартире я, как только узнал, что передо мной работник КГБ, должен был проверить его документы. Во-вторых, я должен был отказаться идти в КГБ без повестки. В-третьих, на допросе я должен был потребовать сообщить мне, по какому делу я вызван, и настоять на ведении протокола. Ну и насчет подписки – я не знаю, кажется, требование ее незаконно.
Но если бы я был такой умный, продемонстрировал кагэбэшникам знание законов и высокий уровень правосознания, они бы уже тогда взяли меня на заметку, и как бы сложилась моя судьба, никому не известно. Но я был самый настоящий советский человек, который не верит ни в марксизм-ленинизм, ни в законы, ни в правду, ни в право. В своих тогдашних отношениях с КГБ я выбрал самую идиотскую линию поведения, и именно она оказалась самой правильной.
Прошло несколько лет. Мое положение резко изменилось. Из самого нижнего социального слоя я передвинулся не в самый высший, но все же довольно высокий: стал членом привилегированной касты советских писателей. Постепенно стало меняться мое мироощущение. Я начал осознавать, что у меня как у личности и члена общества есть какие-то обязанности и какие-то права. Я уже больше разбирался в советских законах и прибегал к их помощи в практической жизни. Но чем скрупулезнее я соблюдал эти законы, тем большими становились мои неприятности. В конце концов я из писательской касты был изгнан и лишился даже тех мизерных возможностей (например, возможности устройства хотя бы на самую низкооплачиваемую работу), которые у меня были, когда я был плотником или студентом. Меня сначала практически, а затем и официальным указом лишили звания советского человека и объявили врагом советской системы. И совершенно справедливо. Потому что, дойдя умом до того, что законы в Советском Союзе все-таки существуют, я забыл то, что раньше знал инстинктивно: никаких законов в Советском Союзе нет. Важны, как я уже говорил, вовсе не писаные законы, а неписаные правила поведения.
Слушали, постановили.
А когда я решил уважать советские законы и пренебрег неписаными правилами поведения, тогда и начались у меня неприятности и персональные дела. Первое дело в 1968 году за подписание коллективных писем в защиту сначала Синявского и Даниэля, потом Гинзбурга и Галанскова кончилось строгим выговором с занесением в личное дело и запретом (это добавлялось автоматически) всех публикаций, второй выговор (строгий с последним предупреждением) я получил два года спустя, после того как первая часть «Чонкина» сперва в виде рукописи ходила по рукам в Самиздате, потом попала в эмигрантский журнал «Грани» и была там опубликована без моего разрешения. Тогда меня обрабатывали долго и нудно, а потом, в июле 1970-го, произошло вот что.
Очередной раз позвонил Виктор Николаевич Ильин, секретарь Московского отделения Союза писателей РСФСР, бывший генерал КГБ.
– Ну как матушка?
– Сделали операцию.
– И что оказалось?
– Не рак.
– Слава богу! – закричал он в трубку с большим чувством и слишком уж фальшивя. – Слава богу! Но теперь-то вы можете прийти?
– Когда?
– Ну, скажем, завтра.
– Нет, послезавтра.
Сам не знаю для чего, но я взял манеру всякий раз назначать не ту дату, которую называл он, и хоть этим хоть чуть-чуть отстаивать видимость своей независимости.
Всякий раз он легко соглашался, и сейчас тоже:
– Ну хорошо, приходите послезавтра.
Послезавтра я пришел в назначенное время, часа в два или три дня. Прихожу, Ильин сидит за своим столом, напротив у стены расположился Лазарь Карелин, рядом с Карелиным какой-то неизвестный мне человек по фамилии, как я потом узнал, Болдырев.
– Садитесь, где вам удобно, – сказал Карелин. – Как, жарко сегодня?
– Да, – говорю, – не холодно.
Сижу, жду, когда они уйдут, но они не торопятся. Больше того, вошел еще некий Тельпугов с бритой наголо головкой пятьдесят четвертого размера. Еще появился некто мне неизвестный по фамилии, тоже узнал потом, Брагин.
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0