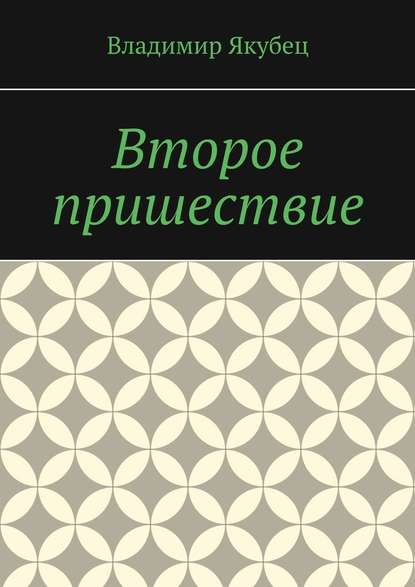По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Второе пришествие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«При рождении моем, мне дали имя Магомед; а родился я в 570-ом году в городе Мекка, – это область Хиджаз в западной части Аравийского полуострова. В то время в тех местах царил хаос племенной разобщенности. Все мы были арабы, но каждый арабский род, хотя бы и самый захудалый, имел своих патриархов и старейшин и считал за необходимое, поклоняться своим собственным богам. Богов было – пруд пруди! К тому же, среди арабов язычников жило немало христиан, иудеев и зороастрийцев. По крови я принадлежал к самому могущественному мекканскому племени – племени курейшитов. К этому должно прибавить то, что род Хашим, из коего я происходил, занимал исключительное место не только в мекканском обществе, но и среди самих курейшитов. Хашим всегда были хранителями ключей от древнего (тогда еще языческого) храма Каабы. Курейшитская знать владела в Мекке всем: торговыми делами, ремесленничеством, рабами и караванной торговлей. Так что по сути, знатные курейшиты держали в своих руках все нити земной власти, даже власть религиозная и та принадлежала курейшитскому роду Хашим. Родиться в Мекке курейшитом, да ещё в столь почтенном роду, означало родиться полубогом. Однако… однако, Творцу было угодно даровать мне раннее сиротство. Эх, сынок, знаешь ли ты, кто такие сироты? Сироты, это никому не нужные вышвырки, которые ищут к кому бы им прислониться, но от которых всякий старается оградиться, словно от проказы. Горько быть сиротой.
Не смотря на то, что родня моя была многочисленна, я был почти никому не нужен. Я очень рано понял, что «я есть» – это мой статус, и кроме этого у меня ничего нет. Также я понял, что все в этой жизни надо будет делать самому. Это были ценные знания – один Аллах знает, сколькими слезами и какой детской обидой я за них заплатил. Один из моих предприимчивых дядьёв, решив, что мальчику, как будущему мужчине, надлежит воспитываться в суровых условиях, отдал меня в пятилетнем возрасте к пастухам. Представляешь ли ты, что такое быть пастухом? Дождь, зной, ветер, непогода, – а ты должен ходить за стадом. Вот говорят «детство»…гм… так у меня его почти не было – разве что мечты и сны. Одну свою мечту и сопряженный с ней сон помню до сих пор. Мечта была по-детски нелепа, однако, нечто мистическое и пророческое в ней было. Представлялось мне в то время, до умоисступления, будто бы я становлюсь великим волшебником, которому подвластно любое чудо. Мечта, конечно, не правдоподобная, но прокручивал я её в голове множество раз, приноравливая всякий раз на тот или иной лад, так, что один раз мне даже сон приснился. Во сне какой-то красивый, светозарный ангел ласково мне прошептал, что моя мечта сбудется. Но сны снами, а действительность была сопряжена с трудностями. Впрочем, в пятнадцать лет рок мне по-настоящему улыбнулся. Один из моих соотчичей и родственников взял меня, не смотря на мой юный возраст (хотя я был не по годам сметлив и отнюдь не робкого десятка) приказчиком при сопровождении торговых караванов. Дело мне нравилось, хотя требовало рачительности и выносливости. Нравилось не только тем, что упрочивало толщину моего кошелька, – что было тоже не маловажно, – но нравилось еще и тем, что давало возможность увидеть мир и вкусить приключений, да и в работе свои тонкости имелись. Приказчик слово звучное, а что за этим стоит – вот вопрос. Верблюдов вовремя напои, стоянки рассчитай, за людьми следи – чтобы все сыты были и чтобы, боже упаси, никто ничего не стянул. А товар? Продай, обменяй, купи, деньги хозяину в целости привези, когда пустыня вокруг разбойниками кишит – целая наука! Зато уж и поносило меня по белу свету: Ясриб, Йемен, Сирия, Иран, Иерусалим, Индия – где только я не был! Однажды, на пути к Дамаску, когда наш караван проезжал через одну Сирийскую пустыню, которая на местном наречии называлась Халиван (что означает «раскаленная печь»), со мной произошел удивительный случай, сильно содрогнувший моё сознание. Дело было в том, что один из мною нанятых проводников (житель тех мест) рассказал мне о неком христианском отшельнике, который жил в этой пустыне в какой-то горной пещере, и которого местные туземцы почитали за святого. От этого рассказа природное любопытство мое сильно разгорелось, и я упросил проводника провести меня к тем пещерам, в которых жил этот святой. Сей христианский подвижник жил действительно уединённо, и нам понадобилось немало времени для того, чтобы его разыскать.
Вообще-то в моей памяти мало сохранилось воспоминаний из тех лет, особенно, что касается человеческих лиц; но глаза этого аскета, бросившего ради Христа весь мир, я помню и сейчас. Два пылавших огнем угля – вот что было у него вместо глаз. Когда я зашел к нему в пещеру, он долго смотрел на меня, а затем тихо проговорил: «уходи». Когда же я, путаясь в словах, попытался объяснить ему цель своего посещения, он, отстранившись от меня рукой, снова тихо произнес: «уходи». Я, чувствуя стыд и неловкость, поплелся к выходу. «Стой!» – вдруг раздалось у меня за спиной. Я обернулся. «Ты станешь Великим Пророком, – сказал он мне, – ты объединишь свой народ и покажешь всем пути Творца. Много лет назад, мне было ведение от Господа. В видении я видел тебя, и тут же слышал голос, который сказал мне, что умру я на следующий день после того, как наяву увижу лик Великого Пророка. А теперь уходи… у меня осталось мало времени… нужно успеть приготовиться к встрече».
Надобно сказать, что слова отшельника, хотя и всколыхнули мое самолюбие, хотя и запали на много лет мне в душу, однако же, особого вдохновения во мне не вызвали. И дело было не в том, что мне было всего 23 года, в этом отношении я был как раз из тех людей, которые рано задумываются над мироустройством явлений. Дело было в том, что слишком уж сложна была та действительность, в которой я жил.
«Объединить свой народ» – это была мечта столь обетованная, сколь и безумная. Объединить народ, который имел в храме Каабы около трехсот шестидесяти изображений своих родовых божеств, так, что на каждый день приходилось празднование какого-нибудь племенного бога; объединить народ, который был раздираем родовой враждой, кровавой местью и волчьими интересами жадной знати; объединить народ, состоящий из оседлых горожан, которые жили в своих городках и презирали кочевников, и объединить с горожанами тех кочевников, которые кочевали с место на место и частенько грабили и презирали оседлых горожан; и при этом объединить мне – скитающемуся по свету безвестному сироте?! Да!.. эта мечта была поистине нелепа. Но еще более нелепой была мечта стать Великим Пророком. Я видел жизнь. Я изъездил Аравию вдоль и поперек. Скажу честно: мне довелось перевидать немалое число пророков и пророчиц. Да что тут говорить – те времена просто-таки кишели пророками. В Йемаме был пророк Маслама; в Йемене проповедовал пророк Асвад, которому даже удалось, хотя и ненадолго, захватить тамошнюю власть в свои руки, но вскоре его убили; на севере в Джазире, я видел пророчицу Саджах из племени темимитов; еще был пророк Тулейха; еще… да что там говорить – под каждым кустом верблюжьей колючки можно было найти пророка! Они появлялись перед людьми с закрытыми лицами, закутавшись с ног до головы в одежду; они кричали что-то маловразумительное, вертелись на месте и впадали в транс. Обычно они вызывали равнодушие, нередко смех – только легковерный мог им верить. Так что предсказанное мне отшельником пророческое будущее, не очень-то меня и тешило. Да и, по совести сказать, другое меня занимало тогда, другим была полна моя душа.
О!.. незабвенное время!!! Время радужных грёз и волнующих душу предвкушений. Тогда… тогда я встретил её, и всё средоточие моего существа устремилось к ней точно так же, как устремляется ночная мошкара к горящему в темноте пламени. Её звали Хадиджа. Красота её была невероятной. Жила она в Мекке и свободно пользовалась положением овдовевшей супруги одного зажиточного тамошнего купца, который, не в обиду ему будет сказано, не сумел оставить о себе, в сердце жены своей, благоговейно чтимых воспоминаний об образе своём, ибо был человеком скаредным и суровым. Может быть, от этого, а, быть может, и от того, что у неё не было детей, – глаза её всегда излучали свет какой-то тихой и кроткой печали. Судьба столкнула нас случайно и навсегда. Мы сразу стали с ней близки духовно, наверное, из-за того, что она, как и я, была сиротой. В скором времени она вышла за меня замуж. Должен тебе сказать, что из всех благ, дарованных человеку Аллахом, ничто не сравнится с благом иметь хорошую жену. Хадиджа в этом отношении была настоящим чудом. Она любила меня беззаветно, причем сразу двумя видами любви: любовью женщины и любовью сестры. Она родила мне 7 детей. Ни разу в жизни она не попрекнула меня своим богатством, хотя я, как это и положено мужчине, стал заведовать всеми делами. Мы никогда не ссорились и не ругались – она чтила меня, а я чтил её.
Всё было бы хорошо, не смотря на мелкие мимобежные житейские трудности, но мысли, которые слагались в длинные ряды определенных вопросов, буквально-таки заедали меня. Сумятица в моей голове имела свои причины. Одной из таких причин были ханифы. Ханифы были явлением в тогдашнем обществе. Это были духовные бродяги (в смысле свободного искания истины), хотя многие из них в самом деле являлись обыкновенными базарными пройдохами и попрошайками. Всякий род деятельности, окромя созерцания и обсуждения своих созерцаний, был чужд ханифам. Они, собственно, не очень-то и скрывали своё презрение ко всем прочим людям не их касты. Так, какой-нибудь ханиф, нередко облачённый в жалкое рубище, умудрившись каким-то только им ведомым даром, собрать вокруг себя на базарной площади толпу людей, держал себя перед этой толпой словно падишах. Сила ханифов была в пленительной мысли, которая в сонме языческого хаоса предвкушала и предугадывала появление единобожия. Конечно, всё что они говорили было зыбко и путано, но это было похоже на свежий ветер в комнате с затхлым воздухом. Я много с ними беседовал и частенько спорил. Нередко мне удавалось разбивать их в пух и прах, но иногда я и сам бывал бит, особенно если вступал в спор с каким-нибудь ханифом из «стариков». Если же говорить по существу, то в идеях ханифов не было, лично для меня, ничего необычного, ибо я рос сиротой и не был привязан ни к какой родовой религии. Естественно, это повлияло на моё мировоззрение. В Бога я веровал и часто молился ему (по-своему конечно), и в моём восприятии Творец всегда был один – это я помню за собой даже из самого раннего детства. Еще помню за собой качество искать уединения, особенно тогда, когда на душе бывало нелегко. Не знаю, как у кого, а у меня иные раздумья способны доходить почти до телесных мучений. Бывали такие дни, в которые муки душевных терзаний требовали особенной сосредоточенности. Тогда я бросал всё – жену, детей, дела – и уходил на гору Хира, которая находилась в окрестностях Мекки, чтобы там, в тишине целомудренного одиночества, найти в глубине себя ответ на мучавшие вопросы. Один Аллах знает, через какие бездны приходилось прыгать моему сознанию, чтоб уразуметь глубину границ иных понятий. Да, этого рассказать нельзя. Кто ведает, сколько стоит иная слеза вдохновенья, вкушенная от радости увиденной, за дальними далями человеческих предрассудков, светлой, как тысяча солнц, истины чистого бытия одной из граней нашего бесконечного Творца?
Да… может быть, я и прожил бы так всю жизнь: воспитывая детей, зарабатывая на хлеб и временами размышляя о Господе, но Ему было угодно даровать мне в середине жизни иное поприще. В то время мне едва минуло 40 лет. И вот, один день перевернул всю мою жизнь точно так же, как сильный ветер пустыни подхвачевает и переворачивает в объятьях своих сухой пальмовый лист.
По-своему обыкновению, я, еще с вечера ушедши в горы, проводил тот памятный для меня день один. Красный диск солнца показался над полусонным горизонтом, и вместе с ним, в сознании моём, истасканном мутным бредом ночного бодрствования, поднялось из глубин бесконечной души моей и предстало пред моим духовным взором видение Архангела Джебраила. Я услышал голос: «Иди и скажи!» Но, что я мог сказать? Через некоторое время видение повторилось. Я, плача и надрываясь от душевных мук, вскликнул: «Я слабый человек, ничего не знающий человек… что я могу?.. пророчествовать?.. так я же и говорить не умею!!!» И вдруг сделалась вокруг великая тишина – прежде всего во мне самом. И среди этой тишины я впервые услышал обращенную к человечеству суру Корана: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший научил каламом, научил человека тому, чего он не знал».
После видения в душе у меня были странные чувства. Во-первых, я ощущал какую-то гнетущую опустошенность и острую, как лезвие дамасского клинка, муку одиночества – я чувствовал, что нечто святое и прекрасное оставило меня, а там, где оно только что было, зияла расселина колючей и равнодушной ко мне действительности. Во-вторых, в сердце моём, нарушая временную текучесть страданий, разгоралась заря новых ожиданий: я увидел волю Бога и понял – её надо исполнить. Другого пути теперь для меня быть не могло. Ещё вчера я был обычным человеком – сегодня же я стал Пророком.
Первым слушателем благой вести была Хадиджа – она сразу, и без единого сомнения, поверила мне. Да и вообще, все мои домочадцы и близкие как-то вдруг мне поверили. Это придало мне больше уверенности и стало началом моей пророческой деятельности. Я понимал, что, рано или поздно, мне суждено будет выйти со своей верой к мекканскому обществу. Выйти смело и открыто. Выйти и, не таясь, сказать: «Нет Бога, кроме Аллаха». Всё это я хорошо понимал и поэтому, не спеша, накапливал силу в домашней проповеди. Кстати, видения снова вернулись ко мне и уже не покидали меня до конца жизни.
Время, друг мой, летит быстро: не успевает юноша оглянуться, как он уже стал согбенным старцем. Так же быстро протекли три года моей домашней проповеди. Откладывать больше было нечего – нужно было явить учение Аллаха всему народу. О, я помню те горячие дни! Сначала я выступил перед жрецами и старейшинами, потом у врат Каабы, потом на базарной площади. И что ты думаешь? Для них всё было безразлично! Они кивали мне своими головами и доброжелательно улыбались, но сквозь их улыбки просвечивалось либо полное равнодушие, либо абсолютное непонимание. А как я говорил?! Клянусь тебе, сам Аллах говорил моими устами!!!
«Только на Аллахе лежит прямой путь, только Аллаху принадлежит жизнь последняя и первая, и к Господу твоему – возвращение после смерти! Так поклонитесь же Господу, который кормит вас. Возвеличьте имя Аллаха, и Аллах возвеличит вас. И одежды свои очистите, и скверны бегите, и не оказывайте милость, стремясь к большему. Я не одержимый, я видел Бога на ясном горизонте и поэтому моя проповедь только увещевание миру. Посмотрите на себя! Куда вы идёте?! Увлекла вас страсть к умножению, пока не навестили вы могилы. Потом вы будете спрошены, в день Суда вы будете непременно спрошены, и Аллах обратит вам ваши козни в заблуждения. Тот, кто давал и страшился, и не считал ложью прекраснейшее, тому Господь облегчит к легчайшему; а кто скупился и обогащался, и считал ложью прекраснейшее – тому Господь отяготит к тягчайшему. И не спасет вас достояние, когда вы низвергнитесь. Горе вам, которые лицемерят и отказывают в подаянии. Горе всякому хулителю и поносителю, который собрал богатство и приготовил его! Думаете вы, что богатство вас увековечит?! Так нет же!!! Будете ввергнуты вы в „сокрушилище“. А что даст вам знать, что такое „сокрушилище“? Это огонь Аллаха воспламенённый, который вздымается над сердцами!!! Что завело вас в огонь? Вы не кормили бедняка, и не кого не любили кроме себя, и погрязали с погрязавшими, и считали ложью день Суда. Но говорю вам: Аллах вводит в заблуждение, кого хочет, и ведет прямым путём, кого хочет, и никто не знает Воинств Господа кроме Него. Когда солнце будет скручено, и когда звезды облетят, и когда горы сдвинутся с мест, и когда десять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра, и когда животные соберутся, и когда моря прильются, и когда души соединятся, и когда зарытая живьём будет спрошена, за какой грех она была убита, и когда свитки развернутся, и когда небо будет сдернуто, и когда ад будет разожжен, и когда рай будет приближен – узнает тогда всякая душа, что она себе приготовила. Поэтому сироту не притесняй, а просящего не отгоняй, и о милости Господа твоего возвещай. И молись Богу твоему единому!» – вот что я говорил им. Но люди того времени были жестоковыйными, и имели в грудях своих каменные сердца. Поэтому паства не спешила разрастаться. Однако, новые последователи моего учения все же ко мне притекали, хотя, в большинстве своём, это были люди из кругов не влиятельных. Так уж повелось на белом свете, что любовь к Создателю больше уживается в сердцах бедняков, нежели богачей. Почему так? Кто его знает? Может быть от того, что любое настоящее познание происходит через страдания, а страдания почему-то, предпочитает ютиться в бедных хижинах, нежели в роскошных дворцах.
Как бы там ни было, а равнодушие общественного мнения вскоре испарилось так же быстро, как испаряется роса на солнце. Стоило мне открыто выступить против мекканских божеств, как тут же, по всему городу, пошла волна, которая всколыхнула ил на дне голов местных ретроградов. Но это было всего лишь начало брожения. Все обострилось после того, как я выступил против авторитета тамошних богинь; «великих» богинь было три: богиня ал – Лат, богиня ал – Узу, и богиня Манат. И вот появляюсь я и, не замечая всеобщего уважения к столь почтенным идолам, объявляю: «Нет Бога, кроме Аллаха!» После этого всполошились все: жрецы, знать, простолюдины и даже наезжавшие в город с близлежащих степей бедуины. Впрочем, разгоревшаяся смута привела лишь к тому, что число уверовавших в мое слово увеличилось. Однако же, увеличение числа паствы усилило раздражение в обществе – как против меня лично, так и против моих новообращенных последователей. Но не это беспокоило меня тогда. К своему прискорбию, я стал замечать, что в моей общине назревает раскол. Причина этого явления лежала в разногласии между мной и между некоторыми особо рьяными неофитами, которые, с моей точки зрения, чрезмерно впадали в крайность бездумного аскетизма. Никого и никогда не учил я суровой аскезе. Никогда, подобно христианам, я не проповедовал монашества. Никогда я не отрицал радости жизни. Но, вместе с этим, говорил, что иногда человеку необходимы пост и покаяние. Очевидно, не каждый меня понимал, даже из тех, которые хотели понять.
Когда же разногласия между моей общиной и прочими жителями Мекки дошли до своего предела, я принял решение отослать в Абиссинию (на противоположный берег Красного моря) тех верующих, которые вызывали в городе наибольшее раздражение, а так же тех, которые были сторонниками строгости и аскетизма. Делая этот шаг, я убивал сразу двух зайцев: смягчал отношения с горожанами и на корню пресекал раскол в среде мусульман. Принятые мной меры хотя и сгладили внутриобщинные дрязги, но на отношения с мекканцами особо не повлияли – к нам по-прежнему относились враждебно. Слишком уж тяжел был камень взаимных разногласий, и никто не мог сдвинуть его с места. Во-первых, мекканцы ужасно были преданы старым богам и обычаям; а во-вторых, воскрешение мертвых, на котором я настаивал и о котором часто говорил, казалось им безумием и выдумкой, поэтому многие считали меня одержимым или поэтом (что для них было одно и то же); в-третьих же, многие из них считали немыслимым, чтобы Бог избрал столь незаметного человека (каким в их глазах был я) своим посланником. Но, главное было в другом. Если бы курейшитская знать признала меня Посланником Бога, то вслед за этим, надо бы было признать меня вождём народа, а этого они не желали паче всего. Эх, мой милый друг, вся неправильность человеческой жизни построена на жадности и зависти.
Но, по правде сказать, в то время моей жизни мрачности особой не было. В то время так ярко светило солнце веры, и во всем так ясно чувствовалась милость Аллаха, и жить было легко, и сносить тяготы жизни, тоже казалось легко. Я и представить себе не мог, что через несколько лет все это счастье развеется, как дым, и скорбь падет на мою голову.
Несчастья начались в 619-ом году. В начале этого злосчастного года, Аллах забрал в свои чудесные сады моего дядю Абу Талиба. Он был главой рода Хашим, и всегда относился ко мне как к другу, не смотря на то, что до конца своих дней оставался язычником. Это благодаря нему, я из простого пастуха сделался приказчиком, и, благодаря нему же, во времена курейшитских заговоров против меня, ни один волос не упал с моей головы. Беда никогда не приходит одна. Через два месяца после кончины дяди, вслед за ним, уходит из жизни подруга и жена моя Хадиджа. Да, рок поистине жесток. Одному Аллаху известны мои муки, впрочем, многие такое переживали. Я выстоял. В это же время ситуация с расстановкой сил в городе изменилась таким образом, что мне и моим братьям по вере пришлось и в самом деле туго. Дело было в том, что после кончины Абу Талиба, во главе рода Хашим, по праву старшинства, оказался другой мой дядя – Абд аль-Уза. Должен сказать, что сей родич мой ненавидел меня едва ли не с самого детства. Именно из-за его «бесконечной милости» меня (пятилетнего) отдали на воспитание к пастухам. Естественно, что он был непримиримым врагом моего религиозного учения, и поэтому сразу же принял против меня свои меры. Меры его состояли, как это всегда бывает, изо лжи и клеветы. Он оболгал меня перед курейшитским обществом. Ложь же его состояла в том, что он бессовестно приписал мне утверждения, сущность которых состояла в том, что будто бы я с наглым бесстыдством убеждал людей в том, что мой родной дядя Абу Талиб, якобы, был брошен в ад, поскольку он-де умер язычником. Трудно было придумать что-нибудь бессмысленней этого вранья – но, в городе из-за этого разгорелась дикая смута. Я, конечно же, предпринял несколько попыток обезвредить своего дядюшку, но это ни к чему не привело – никто не хотел меня слушать. Столь неблагоприятная ситуация, хотя и крайне удручала мой дух, однако же, в некоторой мере, действовала на мою волю как хороший рожон, и, таким образом, заставляла меня вглядчиво смотреть по сторонам. Под жестким давлением зловредных обстоятельств, мою голову, совершенно случайно, осенила соблазнительная и весьма заманчивая мысль – поискать удачи где-нибудь на стороне, вне Мекки. Жизнь почему-то устроена так, что первый блин всегда выходит комом. Точно таким же «скомканным блином» оказалась для меня попытка, найти поддержку в соседнем небольшом городке Таифе, у арабского племени сакифитов. Скажу честно: я едва унес оттуда ноги. Причина их гнева на меня была в том, что я пришел к ним, как власть имеющий, а они явно не желали навесит себе на шею ярмо какого-либо правления, так как, по природе своей, были свободолюбивы. К тому же они особенно почитали богиню ал-Лат, которую я изрядно унижал и хулил в своих проповедях.
Да, в Таифе мне изрядно не повезло, но я не отчаивался: чем больше на мою голову сыпалось неудач, тем крепче в моём сердце становилась вера в бесконечное милосердие Аллаха. Так уж был я устроен, что моему духу всегда претила беспомощность; наверное потому, что я был человеком действия. Отдавая должное находчивости злого рока, я вспоминал о Творце и всегда успокаивался. Да и, по правде сказать, тогда не было особого времени на посыпание головы пеплом – надо было жить, а значит бороться. Именно борьба за свою веру свела меня, в конце концов, с группой «мединцев», которые проживали в Мекке и занимались барышничеством ради куска насущного хлеба. Надобно сказать, что моя покойная мать тоже была родом из Медины, так что, в какой-то мере, мединцы приходились мне за земляков. Взвешивая на весах благоразумия свою ближайшую будущность, я не мог не видеть того, что шаг с переселением в Медину, может быть тем самым благодатным поворотом судьбы, которого я так давно ждал. Но мне хотелось нерушимых гарантий, и потому, исключая всякую опрометчивость и поспешность, я повел через мединскую диаспору Мекки серьезные переговоры со старейшинами Медины. Спешить и в самом деле было ни к чему, тем паче, что Медина тех лет напоминала забитый барахлом чулан, в котором сам шайтан ногу сломит. Это был такой себе плодородный оазис, километров 50 в округе, сотканный из сельских поселений, часть которых была окружена стенами. Население Медины, состоявшее из арабских племен аус и хазрадж, а также еврейских племен бану-кайнука, бану-надир и бану-курайза, – страдало от постоянно вспыхивавших междоусобиц, причиною которых была суровая борьба за воду и плодородные земли. Естественно, иметь дело со своенравными язычниками и предубежденными иудеями было непросто, поэтому-то переговоры с ними растянулись на несколько лет. Вернее сказать, это были даже не переговоры, это была некая попытка подготовки благоприятных условий для моей религии в Медине, которая обретала успех, через обращение в ислам тех мединцев, которые изъявляли к этому желание. Вот так-то, за несколько лет общения с мединцами, мне удалось добиться того, что в Медине, в среде арабов язычников, был частично принят ислам. Впрочем, не многие в Медине желали воспринимать меня как вероучителя и Пророка. Скорее всего, я был для мединцев достодолжночтимым краснобаем, которому было под силу внести мир в сложное бытие тамошних жителей. Как бы там ни было, но знойной и ветреной осенью далекого 622-го года, я и семьдесят самых преданных мужчин моей общины вместе с женщинами и детьми совершили весьма нелегкое переселение в Медину. По приезде в Ясриб (так в те времена называли Медину), я сторговал и купил у двух мальчиков сирот участок земли, на котором остановилась моя верблюдица, для того чтобы соорудить на нем место для молитвы и построить себе дом. Вообще-то Медина встретила нас без особого радушия – сухо и по-деловому. Что делать?.. мы были пришельцами, а пришельцам всегда трудно обживать новое место. Дел тогда было невпроворот. Во-первых, нужно было, во что бы то ни стало, объединить вокруг себя того, кто этого хотел, чтобы хоть как-то смягчить в Медине дух многолетней вражды и междоусобной распри. Во-вторых, в то время нам (переселенцам), как никогда, нужна была денежная независимость. Обрести эту независимость можно было единственным путем, – нападением на мекканские караваны. Да!.. я хотел грабить караваны!!! Но, клянусь тебе, не только нажива двигала мной. Мекканцы продолжали молиться шайтану, а мы молились Аллаху. По сему, мир должен принадлежать либо нам, либо им. Так я тогда думал. Однако думать можно было сколько угодно, а для какой-либо мало-мальски серьезной военной компании нужны были люди, умеющие держать оружие в руках. Правдами-неправдами мне все-таки удалось в скором времени сколотить небольшой военный отряд. Нас было почти триста человек. Пускай тебя не пугает наша малочисленность, ибо наша сила была в том, что все мы были братьями по вере, и были готовы отдать свои жизни за религию Аллаха. Может быть, поэтому, первые наши вылазки были удачливы и успешны. Эти маленькие, но доблестные, успехи произвели на жителей Медины чрезвычайное впечатление. Так уж водится, что удачливый человек привлекает к себе всеобщее внимание. Не был исключением и я. Моё влияние в мединских кругах как-то вдруг и сразу возросло, причём возросло до такой степени, что мне удалось, не только увеличить паству мусульман, но и примирить, на почве ислама, дотоле враждовавшие между собой племена аус и хазрадж. Это была неслыханная удача. Вместе с тем, злополучный и коварный рок не смыкал своих завистливых глаз и сеял на моём пути новые плевелы житейских трудностей. Мекканцы, дабы защитить свою караванную торговлю, отправили против нас хорошо вооруженный отряд легкой и подвижной конницы. На юго-западе Медины есть небольшое торговое селение – Бадр. Именно там мы сцепились с мекканцами. Нас было в три раза меньше чем их, но дрались мы, как львы, и поэтому победа осталась за нами. Это была первая серьезная битва и первая значительная победа. Не трудно угадать, что, после столь удачливого дела, уважение ко мне в среде мединских арабов выросло до небывалых размеров. Пользуясь попутным ветром своей славы, я, спустя месяц после битвы при Бадре, воспользовавшись в качестве предлога религиозными разногласиями, изгнал из Медины еврейское племя бану-курайза. Евреи были опасны. Они отказывались признавать меня посланником Бога, следовательно, выказывали неспособность к религиозной гибкости. Они всегда держались от всего в стороне, как бы кичась тем, что они евреи, и, быть может, из-за этого я никогда не мог понять, что у них на уме. Ну, да ладно… в мои-то годы как-то трудно ворошить эту кучу пожухлых исторических листьев. Эх, сынок, если бы воскресить в памяти былые чувства и былые страсти, может быть тогда, я бы и смог ответить, почему я поступал так, а не иначе. Я ведь никогда не был жестокосердным человеконенавистником. Так откуда же тогда это? Такова, наверное, была воля Аллаха, а иначе и быть не могло. В те дни я поступал так, как требовала того насущность, а она, между прочим, не спешила медлить. Тогда нужно было помнить одно: Мекка оскорблена, Мекка жаждет отмщения, Мекка затаилась для того, чтобы приготовиться к прыжку. Я, конечно, предполагал, что ближайшее будущее утонет в лязге оружия, но не думал, что эти события наступят столь скоро. Не прошло и года, как мекканцы, собрав из людей Мекки и окрестных бедуинских племен 3-ех тысячное войско, двинулись на нас войной. На этот раз сражение произошло на северо-западе Медины, возле горы Ухуд. Я хорошо помню тот день. Неприятности начались с того, что вождь еврейского племени бану-надир, не за долго до мекканской атаки, сообщил мне о своем нежелании участвовать в схватке, и предложил вступить с мекканцами в переговоры, в ином случае, он со своими людьми грозился покинуть поле боя. Принять такие условия я не мог. Каким-то чудом мне удалось уговорить евреев, отступить во внутреннюю часть оазиса, для того, чтоб создать там вторую линию обороны, на тот случай, если мекканцы прорвут наши ряды. Само собой разумеется, что подобные дрязги не способствуют усилению боевого духа в сердцах воинов. В нашем стане начали шептаться и роптать. Кто-то пустил слух, что нас будто бы предали; кто-то предлагал сложить оружие и разойтись по домам; кто-то кричал, что во всем виноваты евреи, и нужно им немедленно отмстить, – короче, начался неописуемый хаос. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, и как бы все это утряслось и улеглось, если бы не вихрь мекканских всадников, которые, подобно черному мареву, показались из-за близлежащих холмов и, набирая стремительность, двинулись на нас, грозя смести все живое со своего пути. Время сузилось и натянулось, как тетива. Едва я успел вскочить на коня и выхватить саблю из ножен, как тотчас же был втянут в какой-то не мыслимый и ни на что не похожий ураган кровавого и потного месива. Все вокруг кричало, стонало, визжало, выло, улюлюкало, содрогалось в предсмертной агонии, боролось, напрягало силы, кололо и рубило на право и на лево. Очевидно было одно – они нас смяли. Надо было что-то предпринять; собрать последние силы и, может быть, в последнем рывке подороже продать свою жизнь. Помню, как я встал на стремена и, напрягая свой сорванный голос, крикнул: «братья!» – на этом моё сознание померкло. Всё закончилось так, как и следовало ожидать: они выиграли, а мы проиграли. Я был ранен из пращи камнем в голову. Мекканцы отомстили за себя и их войско, изнуренное в схватке, ушло домой, не проявив той враждебности, которая обычно свойственна победителям по отношению к побежденным. Как бы там ни было, но они оставили Медину в покое, само собой разумеется – до времени.
Жизнь… жизнь… ты трудна, и состоишь из постоянных передряг. Воистину, нужно быть либо бесшабашным сорвиголовой, либо сметливым мудрецом, чтобы без уныния смотреть в лицо коварной судьбе. Хвала Аллаху, который наделил меня мудростью и изворотливым умом. Благодаря этому мне сразу удалось извлечь весомую выгоду из такого, казалось бы, неблагоприятного обстоятельства, каким было, в глазах многих, поражение от мекканцев. Я сразу понял что к чему и, не колеблясь, возложил всю вину за поражение в битве на евреев племени бану-надир. Возмутить против иудеев раздраженный народ, не составило особого труда. Дело закончилось тем, что племя бану-надир было изгнано из Медины – евреи ушли на север, чудом избегнув кровавой расправы. Такой поворот событий ещё больше усилил моё положение духовного вождя среди местных арабов. С этого времени мои приказания исполнялись практически безоговорочно. Такая власть была мне по нраву, ибо у меня никогда не кружилась голова от власти, потому что я всегда знал, в какое русло её направлять. Я управлялся с властью точно так же, как искусный гончар управляется с куском мягкой и податливой глины. Почувствовав своё могущество, я сразу же придавил тех, кто держался по отношению к исламу лукавого нейтралитета; враги и инакомыслящие с тех пор попритихли, и, уж если и замышляли что, то держали язык за зубами. Единственной серьезной угрозой, по-прежнему, была только угроза со стороны мекканцев. Я был для них костью в горле, и это, очевидно, не давало им покоя. Не прошло и года со дня битвы при Ухуде, как они уже пожалели о том, что не расправились со мной до конца. И они снова начали собирать против нас всеобщее ополчение, надеясь привлечь на свою сторону племена кочующих бедуинов, для того чтоб окончательно покончить с моей мусульманской общиной. Не смотря на то, что время летит быстро, однако, вода в реке человеческих дел течет медленно, поэтому приготовление мекканцев к нападению растянулось на несколько лет. Происки и намерения курейшитов не были для меня тайной, поэтому я не был сильно потрясён, когда узнал о том, что десятитысячная мекканская рать двинулась на Медину войной.
Десять тысяч хорошо вооруженных всадников это была приличная сила, остановить которую в чистом поле не было никакой возможности, тем паче, что в наших рядах бойцов было едва ли не вполовину меньше. Нужно было что-то придумать, каким-то образом перехитрить их и переиграть. Выход нашелся неожиданно. Случилось мне, за несколько месяцев до вышеупомянутых событий, обратить в ислам некоего раба-перса Сальмана аль Фариси. Аллаху было угодно наделить этого человека тонким и гибким умом, который более подобает и приличествует полководцу, нежели тому, кто влачит узы позорного и жалкого рабства. Военная хитрость, которую придумал Сальман, заключалась в том, чтоб вырыть длинный и глубокий ров на северо-западной границе города, и тем самым создать непроходимый барьер для вражеской конницы. Времени было в обрез, поэтому ров вырыли за два дня – рыли все: мужчины, женщины, старики и даже дети. Для того чтобы сделать наш оборонительный рубеж ещё более неприступным, я велел поставить лучников возле рва. Для мекканцев подобная выдумка оказалась полной неожиданностью. Их многочисленная и мощная конница выглядела совершенно беспомощной перед моими лучниками, метко стрелявшими из-за рва. Предприняв несколько вялых атак, они отхлынули и перешли к многодневной осаде. Теперь время работало на нас. Мекканцы, не подготовленные к такой войне, недели через две оказались без продовольствия. В их стане начались раздоры, к тому же, как будто сочувствуя нам, небо одождило землю ненастной погодой. Всё это, мало-помалу, подорвало сплоченность среди нападавших, и вынудило их через месяц отступить. Однако же, перед тем как снять осаду, они попытались снюхаться с евреями племени бану-курайза, которые, кстати сказать, заняли в этой войне выжидательную позицию. Не знаю всю глубину их интриги, но мне достоверно известно, что мекканцы пытались уговорить евреев атаковать нас с юга, однако, евреи отказались.
Да, эту брань мы выиграли малой кровью – наши потери составили всего шесть человек. Странное дело, но война и на этот раз оказала мне услугу, в том смысле, что мне представился замечательный повод обвинить в измене племя бану-курайза, – это было последнее племя в Медине исповедующее иудаизм. Подобно пламени, с треском сжигающим сухую траву, разгорелась в Медине лютая расправа над несчастными евреями. В один день от многочисленного племени не осталось и следа: мужчины были обезглавлены или забиты палками до смерти, женщины и дети проданы в рабство бедуинам области Надежд за верблюдов и оружие, земли и имущество племени было разделено между арабами, принявшими ислам. Отныне Медина стала независимым и самобытным городом мусульманской общины.
Все это было бесчеловечно и очень жестоко; я это понимаю и не оправдываю себя, хотя, человеческое понимание Бога всегда впрыскивалось в цивилизацию людской кровью. Такова была воля Аллаха. О, если бы можно было все вернуть назад; хотя… может быть, ничего бы не изменилось.
Как бы там ни было, а в Медине с тех пор наступил мир. Именно тогда я и создал «завет общины», который полностью зиждился на вере в Аллаха. В то время мне удалось привлечь к исламу немало бедуинских родов и племён. Со мной хотели иметь дело, ибо я устанавливал обязанности и права, по свободному согласию с каждым. Меня стали признавать не только как вождя, который взвешивает отношения внутри и за пределами «общины», но и как Божьего Пророка. Тогда же я стал настоятельно требовать того, чтобы любой род, желающий к нам присоединиться, обязательно принимал ислам, так как всё моё толкование государства строилось на вере в Аллаха. Тогда же я понял, что единственной возможностью сохранить «мусульманский мир», является возможность постоянного давления на мир языческий. А так как центром язычества была Мекка, то все наши усилия, естественно, были направлены главным образом против неё. Надобно сказать, что Мекка была сильным противником, и не так-то легко с ней было бороться. Хотя средств на эту борьбу было положено не мало, однако, результаты были ничтожны, и если бы в то время не умер Иранский шах Хосров-второй, то не знаю даже, чем бы все это могло закончиться. Дело в том, что со смертью Хосрова-второго (который был как бы оплотом всего арабского язычества, ибо сам был жутким язычником), так вот с его смертью курейшидские вельможи едва ли могли рассчитывать на сколь-нибудь сильную и скорую помощь извне. Но и это не было главным. Вскоре после этих событий, я увидел Божественное видение. Я видел Аллаха, который сказал мне: «Соверши паломничество в Мекку, и ты выбьешь у курейшитов почву из под ног».
О, мальчик мой, если бы ты видел наше шествие в Мекку!!! Тысячи вдохновленных Аллахом людей идут поклониться святыне Каабы!!! Музыка, песни, танцы, ликование, жертвенные животные… И что ты думаешь? Они нас не впустили. Вернее сказать, они затеяли переговоры, на которых заявили, что впустить нас в этом году они не могут, но впустят-де в следующем. Что же нам было делать? Мы с ними согласились и выиграли. Толпы мекканских беженцев устремились в Медину, сгорая нетерпением принять новую религию, после принятия которой, они возвращались в Мекку моими горячими сторонниками. Мекка зашаталась и через год сдалась в руки моим войскам. Всё произошло мирно. За исключением казни нескольких негодяев всем было даровано прощение, правда многих богачей пришлось заставить поделиться с доблестными войнами Пророка Единого Бога Аллаха. Вот так-то, сынок. Это почти вся моя история, за исключением нескольких последних лет земной жизни, о которых не стоит упоминать. Когда пришла помощь Аллаха и победа, и ты увидел, как люди входят в религию Аллаха толпами, то восславь хвалой Господа твоего и проси у Него прощения! Поистине Он – обращающийся!!!»
Старый араб замолчал и надолго задумался. В наступившей тишине повисло загадочное безмолвие, в котором, мерцая, розовели жаркие угли догоравшего костра.
– Скоро рассвет. Летние ночи коротки, надо заварить кофе. – Проговорил старик и стал возиться с потухавшим огнём.
В воздухе, зараженном неподвижностью остановившегося времени, трепыхалась и едва заметно посапывала бесшумная оторопь предрассветного затишья.
– Слушай, сынок, есть такая притча, героем которой является старый мастер игры на сароде, которому, то ли из милости, то ли за виртуозную игру, некий добродетельный человек подарил новый и дорогой сарод. Стало у мастера два инструмента. И вот мастер, человек весьма щедрый, решил подарить один из своих инструментов своему ученику. Как решил, так и сделал. После этого его встречает добродетельный меценат и спрашивает его: « Ну, как звучит тот сарод, что я тебе подарил?» Старый музыкант ответил: «Звучит он божественно, да только его уже у меня нет, ибо я его передарил другому». Это возмутило добродетельного мецената, и он ушел, затаив в сердце обиду на старого мастера. Прошло время, и умер добродетельный меценат, и попал на суд Аллаха. И стал он на суде пред Богом оправдывать свою жизнь добродетельными делами, чтобы, посредством этого, умилостивить Творца и заслужить себе, таким образом, место в раю. Но Всевышний и Всеблагой, в ответ на столь рьяную ревность добродетельного мецената, только громко рассмеялся и изрёк: « Твои грехи и добродетели предо Мной аки прах, ибо и то, и другое, является плодом тех возможностей, которые Я вложил в твоё сердце, когда тебя создавал. По сему, иди с миром. Не за дела твои прощаю тебя, ибо дела твои предо Мной суть ничто, прощаю тебя по Своему милосердию».
– И что ответил добрый меценат? – не без интереса спросил я.
– А что тут ответишь, его же простили благодатью Творца, то есть даром, без заслуг и дел. Потому, что делами (какими бы они ни были) не оправдывается перед Господом никакая плоть.
– Что же в таком случае ждет меня?
– Сейчас тебя ждут несколько глотков горячего кофе, а дальше будет видно, – ответил Магомед, подавая мне небольшую медную кружку, из которой шел пахучий и ароматный пар.
Мы сидели и пили кофе. Светало. Мне было грустно, ему, очевидно, тоже. Я чувствовал, что нам предстоит разлука, и от этого мне было отчего-то не по себе. Странно, но мне, как-то вдруг, этот дивный человек показался близок. Дело в том, что в среде людей с босяцкой и воровской судьбой часто встречаются люди добрые сердцем и неглупые от того, что периодически много читают книг всякого рода. Бывают такие индивидуумы, которые за время своих трех-четырех отсидок перечитывают, скажем, Библию по двадцать раз от корки до корки, запоминая при этом многое, так, что при случае могут цитировать « притчи Соломоновы» или «Откровение» едва ли не целыми главами. Из таких читающих и добрых сердцем рецидивистов, зачастую выходят верующие и нравственно крепкие люди, которые, от момента своего настоящего раскаянья и до могильной сени, ведут чистую и праведную жизнь, которую они стараются наполнять добрыми деяниями и хорошим отношением к окружающим их людям. К такому вот типу людей принадлежал, в какой-то мере, и я. Библию двадцать раз я, конечно, не читал, да и знал в сущности-то больше Новый Завет, и то урывками, знал скорее сущность духа книги, нежели букву. Впрочем, читывал и Достоевского, и Бальзака, и многое другое – в разное время: как в тюрьме, так и на воле. Хотя это может показаться самовосхвалением, но мне хочется сказать, что, даже в то время, я был человеком не совсем диким. Ей-богу не был! Был я груб, а более всего озлоблен, но всё это, не смотря на многолетнее валяние в грязи (чуть ли не с самого детства), всё это не зацепило того ядра души, в котором свивает себе гнездо доброта человеческая. Поэтому-то встреча с Магомедом подействовала на меня так, что всё лучшее, доселе десятилетиями спавшее во мне, вдруг разом проснулось, ожило и дало надежду на жизнь, всей моей отравленной и испещрённой многими надругательствами душе. Да и дело было не в Магомеде – хотя это был Человек. Дело было во мне самом. Есть люди, – и я в их числе, – которые всю жизнь ищут Человека, так же почти ищут, как и легендарный Диоген с фонарём. Говорят, что это потребность найти родственную душу, или желание отразиться в понимающих тебя глазах. Я этому не верю, потому что здесь совсем другая причина. Здесь, как бы желание найти себя самого. Объясню. Живет, скажем, в каком-нибудь провинциальном захолустье мудрец уровня Сократа. Живет до глубокой старости и умирает. Кто во всей вселенной, кроме Творца, знал, что это второй Сократ? Близкие? Соседи? Близкие и соседи, люди, мягко говоря, простые, и, в случае лучшем, они всю жизнь почитали этого мудреца за чудака. Может быть он сам тешился тем, что всю жизнь сознавал мощь собственной мудрости? Но, уверяю вас, что он, как истинный мудрец, всю жизнь знал, что он ничего не знает. Вот таким-то образом перед нами разворачивается картина не познанного существования. Кто-то существует, но никто, из рядом живущих, его не познал; так что внутреннего мира этого «кто-то» для других, как бы, нет. Но если вдруг, какому-либо искателю истины посчастливится встретить такого вот никому не ведомого Сократа, то тут уже, смею вас заверить, вступят в действие иные законы, – законы дерзновения дорасти до понимания сути вещей мудрейшего тебя человека. Ведь и фокус весь состоит из того, чтоб увидеть. Сумел увидеть талант, гениальность, глубину, мудрость. Значит и сам, в какой-то мере, талантлив, гениален, глубок и мудр. О, Диогенов фонарь, Диогенов фонарь, быть может, свет твой существует лишь для того, чтобы найти самого себя на кругах бытия.
* * * * *
Меня разбудил звук журчащего ручья, звонкое плескание которого прорезало весёлое щебетание птиц. Я открыл глаза. Вокруг меня были джунгли. Ужасно болела голова. Машинально, по-звериному, на четырех конечностях, проклиная всё и вся, я пополз к воде и, доползши до неё, стал жадно её лакать. Жажда утолялась долго. Чем больше я пил, тем меньше болела голова, так, что когда я оторвался от питья, от моей головной боли не осталось и следа.
В голове прояснилось, и, вместе с этим прояснением, вдруг, откуда-то из глубины воспоминаний, вылетело и закружилось в мозгу слово – Магомед.
«Магомед, Магомед, Магомед, Магомед, Магомед. Магомед…»
– Ах, да!!! Магомед?! Куда делся Магомед?! Или это был сон?! – удивленно спросил я у самого себя.
«Магомед… его ночная исповедь, да и вся эта пустыня. Пустыня? Я ведь был в пустыне!!! Пустыня, книга, старик… старик-то самое главное, чуть было его не забыл».
Сознание и память вернулись на место вместе с крутым и подлым вопросом: что же теперь делать? Делать было почти нечего – нужно было как-то жить, а значит, нужно было куда-то идти. Оценив ситуацию, я принял решение идти вниз по течению ручья. Мне казалось, что, таким образом, рано или поздно, куда-нибудь непременно придёшь, – может быть к истоку большой реки, на берегах которой возможно посчастливится найти людские поселения. Однако все разрешилось не так, как я думал. Я не сделал и нескольких шагов из намеченного мной пути, как вдруг услышал позади себя тихую и нежную мелодию – как будто кто-то играл на сопилке или какой-то флейте. Как полоумный, забыв себя, бросился я бежать на звук загадочной мелодии. Пробравшись сквозь густые заросли и порядком изорвав о кусты свою одежду, я, наконец, выбежал на поляну, на которой под могучим, разлапистым, старым и раскидистым деревом, сидел, скрестив перед собой ноги, человек в желтом одеянии. Он играл на флейте. Я стоял и тяжело дышал. Это продолжалось с минуту. Внезапно мелодия прекратилась, и человек в желтом одеянии помахал мне рукой.
– Иди сюда, коль пришел! – крикнул он мне, заметив мою нерешительность.
– А ты неплохо играешь на флейте, хотя и не похож на музыканта! – крикнул я ему в ответ и пошел к нему.
– На кого же я, по-твоему, похож? – спросил он меня, когда я приблизился.
– На какого-то монаха, – ответил я.
– Ха-ха-ха… на монаха? Вот не ожидал! Возможно тебе это только кажется – игра первого впечатления. Да и вид у тебя усталый, ты, должно быть, с дальней дороги?
Ласковая улыбка освещала лицо этого человека. Глядя на него, мне почему-то вспомнился старик. Что-то общее было между этими людьми, какое-то неуловимое сходство, сходство то ли в улыбке, то ли в блеске глаз.
– Да, я действительно устал и проделал не лёгкий путь, – начал, было, рассказывать я, но, вспомнив свою историю, резко оборвал.
– Ты можешь мне ничего не говорить, мне и так всё понятно, – сказал он.
– Слушай, я не знаю кто ты, да и знать не хочу! Просто мне это всё чертовски надоело! Понимаешь?! На-до-е-ло!!! Все эти загадки, сны, наказания за грехи, не понятно какие люди, книги, вся эта чушь, будь она проклята!!! Я водки хочу!!! Напиться хочу, как свинья, и домой – поспать на лавочке!!! – закричал я и с бешенством уставился на него, чувствуя, что если он скажет хоть слово, я брошусь на него и задушу.
Если бы мне кто-то сказал, за минуту до этого, что ещё чуть-чуть и я приду к состоянию бешеного исступления, то я бы ему не поверил. Просто диву даёшься иногда, из-за непредсказуемой и необъяснимой несуразности собственной же психологии.