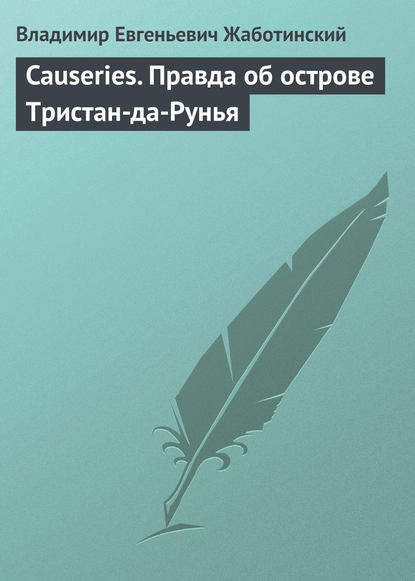По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Causeries. Правда об острове Тристан-да-Рунья
Год написания книги
1930
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С точки зрения расы; колония на о. Тристан-да-Рунья – не только смесь; но смесь беспримерная. Среди ссыльных представлены, кажется, все без исключения нации на свете; поколение, рожденное на острове, есть результат скрещения между приблизительно пятьюдесятью породами отцов и двадцатью породами матерей.
Китай и Япония присоединились к договору сравнительно поздно, и то с большими оговорками – в этих странах сейчас еще преобладает представление об уголовной каре, как о «возмездии». Поэтому желтая раса не очень сильно представлена на острове. То же приходится сказать о черной расе. Медицинская комиссия при Международной палате очень редко утверждала «тристанские» приговоры в отношении чернокожих, отказываясь в большинстве случаев признать осужденного природным преступником; одно время это обстоятельство повело даже к раздраженной полемике и в Соединенных Штатах, и в Южной Африке.
Белое большинство зато само похоже на этнографический музей. Преобладают элементы крайние – крайний южный и крайний северный; сильно представлены славяне; англичане, французов и немцев сравнительно мало.
Склонности к обособлению я не заметил, и, говорят, ее никогда не было. Я ожидал, что найду сплоченные землячества; но состав всех двенадцати поселков острова говорит о совершенно обратной тенденции. В первое время, когда еще не было общего наречия, поселенцы, должно быть, еще группировались по языкам; но вскоре это стало невозможным. Каждая новая «высадка» (в составе которой редко можно было насчитать трех человек одного и того же происхождения) вынуждена была селиться скопом на заранее отведенном месте; таким образом, размежевание пошло по линии «старожилы» – «новички», а не по линии рас и языков. Я, вероятно, потому ожидал увидеть обособленные землячества, что судил издали по аналогии с большими портовыми городами нашего мира: белые на Востоке всюду образуют «европейский квартал», а в Нью-Йорке есть десять или больше инородческих кварталов. Но это, по-видимому, только там возможно, где и большинство, и меньшинство достаточно сильны для сплочения. Здесь на острове никакого большинства не было: все это были мелкие осколки наций, слишком ничтожные и для притяжения изнутри, и для отталкивания снаружи, особенно пред лицом всех и вся нивелирующей угрозы голода. Кром того, мир преступников никогда не отличался племенной разборчивостью: даже в штатах американского Юга, даже в Южной Африке их среда была единственной, где расовые различия не мешали ни деловому, ни сердечному сближению.
Когда появились женщины, и началась эволюция, рассказанная в прошлом очерке – от хаоса через полиандрию к срочному браку – о расовом отборе не могло быть и речи; сами женщины тоже никогда не подымали этого вопроса.
Все это я подвожу к одному выводу, который считаю чрезвычайно важным для оценки здешних перспектив; со временем, когда подрастет и переженится поколение, родившееся на острове, а ссыльный элемент – в виду все уменьшающегося притока извне – превратится в ничтожное меньшинство, – тогда раса острова Тристан-да-Рунья постепенно превратится в единственную на свет амальгаму всех рас человеческих; и притом, говоря с чисто физической точки зрения, – в амальгаму из самой, быть может, сильной крови всех этих рас.
Я, конечно, ничуть не настаиваю, что все эти ссыльные принадлежат к типу «великолепного зверя». Есть тут и «интеллектуальный» тип преступника, преемники «философов», хилые, щуплые, часто уродливые. Но они – малое меньшинство. Большинство (и мужчины, и женщины) – чрезвычайно здоровый и крупный народ. Красавцами и красавицами, конечно, я бы их не назвал: лица у белых (о красоте остальных я не судья) часто опорочены метками вырождения, и особенно это заметно у недавних иммигрантов. Зато поколение, родившееся на острове (а здесь уже имеются дети, чьи отцы и матери сами родились на острове; я даже видел такую внучку!) – это поколение поражает своим физическим совершенством, и попадаются в нем очень красивые лица. Упомянутая «внучка» местного производства, например, очень собою хороша; я сфотографировал ее на цветной пластинке, на память о том, что может иногда получиться от цепи непрерывных скрещиваний. У этой девочки римский нос; глаза чуть-чуть японского разреза, но шире; волосы у нее светло-русые, но совершенно прямые, какие бывают у краснокожих: цвет лица – как у шведки, или почти; твердый рисунок губ сделал бы честь лучшей из красавиц Шотландии, но в пределах этого рисунка – губы совершенно по восточному пухлые; а общий эффект – прелестное шестилетнее дитя.
Еще, пожалуй, интереснее – языковая сторона их быта. Ссыльные помнят, конечно, свои природные языки и, с кем могут, охотно беседуют на них. (Иосиф Верба, родом чех, и человек высокообразованный, говорил со мною на превосходном английском языке; если не ошибаюсь, он и приговорен был в Америке). Но потребность в каком-нибудь общем эсперанто стала ощущаться буквально с первого дня первой «высадки»; смело можно сказать – оно было еще нужнее, чем первая соха. В этом смысле местному наречию можно дать все шестьдесят лет; но по-настоящему его развитие началось лет сорок тому назад, после того, как на острове стали появляться дети; а превращение его из жаргона в язык письменности было заслугой пастора Ахо, начиная с тридцатых годов тамошнего летосчисления.
Они свой язык называют «анганари»; Верба думаете, что корень этого имени – французский, и притом нелестный. Я, впрочем, не языковед; лучше привести выдержку из составленной Иосифом Вербой истории острова:
«Старожилам, на глазах у которых зачался и рос анганари, выпало на долю редкое счастье, о котором они и сейчас не подозревают, но за которое дорого бы заплатил любой ученый филолог: их как бы впустили в ту доисторическую лабораторию, где создаются языки. Жаль, что они, как и предки наши пятьдесят тысяч лет тому назад, нисколько не интересовались этим процессом. Но многие из них еще с нами, и, расспрашивая их, можно иногда, словно сквозь щель забора, подметить отдельные черты тех загадочных и прихотливых методов, при помощи которых человечество создает, принимает или отвергает слова».
Главным принципом живучести слов является, по-видимому, не самая точность или меткость данного слова, а те обстоятельства, при которых оно родилось – кто его произнес, как произнес и в какой обстановке. Почему именно одна комбинация звуков «клюет», западает в память и укореняется, а другую ветер уносит, – сказать невозможно; впрочем, одна из этих причин (довольно неожиданная) кажется мне ясна – важным фактором в образовании языка является, по-видимому, чувство юмора. Вот два примера.
«Старики еще помнят времена, когда крупнейшее селение наше называлось Джерико („Иерихон“): прозвище это дал ему англичанин, участник первой высадки, по причин вполне понятной – в английском язык имя этого библейского города употребляется, как обиходный синоним понятия „на краю света“. Как из этого получилось „Черко“? Оказывается, попал на остров, много лет позже, испанец, человек на редкость глупый, и сразу стал посмешищем. Звука „дж“ он выговаривать не умел, и однажды поэтому называл „Джерико“ „Черико“ или „Черко“. Почему-то это всех рассмешило, все начали повторять исковерканное название, сначала в шутку, – а через несколько недель прежнее имя вышло из употребления.
Другой пример – имя нашего языка. К пятнадцатому году нашей эры он уже был повсюду в употреблении, и никому, конечно, и в голову не приходило окрестить его специальным прозвищем. Однажды прибыл на остров некий француз; кто-то о чем-то к нему обратился на местном наречии, француз ничего не понял, потерял терпение и закричал: „II re parle en canari!“. Это рассмешило – и потому „клюнуло“. Отсюда и пошло „анганари“. Нашелся, должно быть, грек, который – очень комично – выговаривал „нг“, вместо „нк“; потом итальянец, который – опять-таки почему-либо „комично“ – переделал на свой лад „…“ и получилось „анганалья“; потом японец тоже непременно комичный, который подставил „р“ вместо „л“, и так далее. Главное – все это должны были быть люди, произвольно или невольно действующее на чувство юмора. Шарль Ландру сказал мне однажды, что ему ни разу в жизни не удалось пустить в обиход ни одного нового слова: он нередко пытался, во время его агитации ему это было даже необходимо – но почему-то его термины не „клевали“. Я думаю – причина в томе, что Ландру был уж никак не „комичен“. Это я, впрочем, замечал и во внешнем мире – на нашем языке он называется „Айсио“ – родители, например, долго стараются обучить ребенка изысканным оборотам речи, и ничего не выходит; а на улице прохожий мальчишка показал ему язык и выкрикнул „смешное“ слово (по большей части непристойное) – и ребенок повторяет это слово, носится с ним, не хочет расстаться.
Другого рода, и еще более важный фактор в образовании языка – дети. Я не сомневаюсь, что в 17 – 18-том году, когда родились у нас первые дети, анганари состояло просто из нескольких сот разрозненных терминов, без падежей, без времен, и, конечно, без установленного произношения. Ни один ученый на свете не нашел бы ничего общего, никакого родства „…“ между этими осколками двадцати разных языков. Но все это нашли дети, играя друг с другом на улице. Они инстинктивно нащупали, как и чем выразить отношение родительного и дательного падежа, как оттенить прошлое и как будущее действие, где лучше поставить прилагательное; и они, сами того не замечая, ввели много новых слов. В этом тоже нет ничего необычного: говор всегда – особое наречие. Но там, в „Аддио“, дети скоро забывают свое наречие, потому что учатся у взрослых; а здесь взрослые учились у них».
Грамматика и словарь, составленные Иосифом Вербой, выйдут приложением к полному отчету о моей поездке. Верба считает, что общий дух языка – арийский, хотя у меня этого впечатления нет: склонение и спряжение выражаются при помощи приставок, а это, насколько я знаю, не арийская черта. Просматривая словарь, я нашел довольно много корней английских и испанских: оба языка распространены в портовых городах, где значительная часть ссыльных и получила свои приговоры. Но воровские жаргоны (утверждает Верба) очень слабо представлены: очевидно, не подошли к потребностям земледельческого общества.
Верба очень высокого мнения об анганари: по его словам, это наречие – «чудо логики и точности». Обиходный словарь его чрезвычайно быстро обогащается. Оно без труда «переваривает» элементы, взятые из любого языка. Слабым местом является, конечно, терминология духовных и эмоциональных понятий: она очень бедна, да и зарождаться начала только в самые последние годы деятельности Ахо. Но Верба верит, что и тут поможет молодежь, родившаяся на острове: она, по его словам, живет сравнительно напряженной духовной жизнью и часто поражает его свежими и меткими оборотами речи.
Александр Ахо – «пастор Ахо», как его называют в кружке Иосифа Вербы – был, пожалуй, еще более крупная личность, чем Ландру. Прибыль он около 20-го года, уже немолодым и скорее хилым человеком. Родом был он финн. Если не ошибаюсь, в северной Европе его имя до сих пор сохранило мрачную популярность, и до сих пор связано с ним много преданий, очень тяжелого содержания, писаных и неписаных. Он, действительно, был священником; кроме того, прекрасно играл на рояле и на скрипке, превосходно знал литературы классические и новые, имел большие познания в химии и астрономии – вообще был человек всеобъемлюще культурный. Если дети наши все еще читают Конан Дойля, они найдут предугаданный прообраз пастора Ахо в лиц доктора Мориарти. Он оказался главой и создателем преступного общества, изумительно организованного, с когтями и щупальцами в разных странах от Мексики до Египта. Но я должен признаться, что просто как-то не хочется говорить о черном прошлом человека, общественный подвиг которого – поскольку идет речь о его новой родине – смело выдержит сравнение с заслугами любого из наиболее чтимых духовных благодетелей нормального человечества.
Прибудь он на десять лет раньше, он – я уверен – пристал бы к «философам» и вместе бы с ними погиб. Но он попал на остров в те годы, когда первые преобразования Ландру начали уже приносить плоды, – в образе детей. Ахо стал первым учителем на острове. Страстный любитель языковедения, – уроженец страны, которая сама только незадолго до того возродила свое наречие и сделала из него орудие культуры, – он сразу уверовал в анганари, тогда еще не доросшее даже до титула жаргона. Начать ему пришлось с изготовления чернил, с очинки первого тростникового пера, с изобретения суррогатов бумаги. Он приспособил латинскую азбуку, установил правописание. Он составил словарь, тщательно отмечая в нем каждое новорожденное слово. Позже он начал «печатать» – сначала на грубой желатиновой массе, потом на сложном ротаторе, где краска продавливалась сквозь дырочки, проколотые шипом в ленте из рыбьего пузыря. Он выработал учебную программу, приспособленную к быту острова, и потому совсем не похожую на наши школьные программы. Этим детям общества, не знающего торговли, никогда ничего не придется считать, кроме телят и яиц: Ахо свел всю их математику к четырем действиям над двузначными. Он исключил географию и историю: мир этих детей должен начинаться и кончаться островом, его летописью исчерпывается вся важная для них хронология. Несправедливо было бы сказать, что целью его было утаить от них существование внешнего мира – вся его литературная деятельность доказывает противное; он только стремился к тому, чтобы люди нового поколения не чувствовали себя вечными изгнанниками, как их отцы, – чтобы весь их интерес и энтузиазм сосредоточился на острове, как на родном доме, не как на тюрьме. И он учил детей именам звезд, обычаю зверей и птиц и растений и рыб; мальчики и девочки помогали ему извлекать соль и бромиды из морской воды; он ввел у них культ хорового пения, сыгравший, говорят, такую роль в национальном возрождении его собственной родины; и он сочинил для них молитву, вроде американских школьных молитв – одинаково пригодную для христиан, мусульман, евреев, буддистов и огнепоклонников, если бы нашлись такие.
В начале сороковых годов (я с полным уважением принимаю его хронологию) вокруг него уже сплотился кружок вдумчивой молодежи; к ним присоединились некоторые из более грамотных ссыльных, в том числе Иосиф Верба. В кружке скоро почувствовался голод по умственной пище. Тогда пастор Ахо предпринял задачу, которой я не знаю равной по смелости и – мне кажется – по таящимся в ней перспективам: дать острову лучшее, что есть в мировой литературе, – по памяти.
Вот что навело его на эту мысль. Как лютеранский священник, он привык думать, что знает «свою Библию» наизусть. Он решил ее записать и перевести. Но с первых же страниц он убедился, что на самом деле память удержала только главные, наиболее выдающееся отрывки. Он пытался было «заставить» себя вспомнить остальное; пытался даже заполнить пробелы поддельными вставками; но вскоре сообразил, что вернейший способ дать «лучшее» – это дать то, что оказалось незабываемым. Так он и записал все, что мог припомнить из Ветхого и Нового Заветов; и, перечитывая рукопись, сам поразился величию, чистоте и возвышенности этой Библии отверженца.
Пастор Ахо понял этот урок. По тому же способу он записал и перевел отрывки из Гомера, Мильтона, его родной Калевалы, Данте, Шекспира, Корнеля, из Фауста, из тегнеровой Саги о Фритьофе. Верба, еще два-три начитанных ссыльных с увлечением помогли ему. Каждый, кто сидел когда-то на школьной скамье, помнит стихотворение или десять строк классической прозы. Очень трудно было переводить, но они поступили, как всякая молодая народность – стали занимать или придумывать новые слова. После пяти лет этой работы (все по вечерам, после дня на пашне или, с каменным топором, в лесу) вряд ли остался один истинный гений из гениев всех времен и рас, который не был бы хоть страничкой представлен в маленькой библиотеке анганари. И именно потому, что это была только одна страница, это была одна из лучших. Кром того, Ахо и его помощники обошли весь остров, разыскивая среди арабов, индейцев, китайцев, русских – кто помнит сказки или басни, слышанные в детстве от бабушек. Ахо мечтал потом проделать то же самое в области музыки. После его смерти, работа продолжается под руководством Иосифа Вербы: он особенно интересуется именно музыкой; он, кстати, хороший скрипач, хотя «скрипка» его мало похожа на скрипку.
Я бы не хотел заслужить упрек в преувеличении; но то, что скажу, кажется мне бесспорным. Всякая народность, конечно, начинает свое духовное пробуждение с переводов. Но при этом она всегда проглатывает гораздо больше макулатуры, чем настоящей литературы; массовый вкус воспитывается скорее на отбросах иностранного производства, чем на его ценностях. Здесь, на острове, перед нами впервые пример отбора абсолютного, – чистое полновесное зерно без примеси плевелов. Когда-нибудь зародится и собственное местное творчество (пока еще таких попыток не было) – и я считал бы совершенно законным ожидать далеко незаурядных результатов от духовных усилий поколения, в жилах которого будет течь, в конце концов, не одна капля самых крепких, самых первобытных кровей мира, – и ум которого сформируется под влиянием такого отбора из мировой сокровищницы.
Я упомянул Библию пастора Ахо. Говорить о религиозном мировоззрении поселенцев еще рано: пока в этой области ничего характерного нет. Любопытно, что в первую эпоху колонии религиозный импульс был как бы совершенно парализован. Робинзоны нашей юношеской литературы всегда простирали руки к небесам – но у них всегда была надежда на спасение; здесь такой надежды быть не могло, и отсюда вся разница. Мне рассказывали, что даже мусульмане и индусы в те годы махнули рукой на свои обряды. Некоторое пробуждение сказалось в эпоху реформ, главным образом среди тех поселенцев, которые начинали стареть; но и оно выразилось не в попытках создать новую общую секту, а просто в том, что старики той же веры иногда собирались помолиться. Молодые уроженцы острова никакого интереса в этом направлении пока не выказывают. Я, однако, слышал мнение, что религиозный инстинкт у них еще некогда проснется, но, проснувшись, не удовлетворится ни одним из готовых катехизисов…
В заключение я хочу привести последние страницы из рукописи Иосифа Вербы – страницы, который он специально для меня написал по-английски в оригинале:
«Я верю в наш остров: как Шарль Ландру и пастор Ахо, я верю, что в перспективе развития он лучше остального мира.
Тому три причины:
Первая связана с происхождением его обитателей. Придет еще день, когда их потомки будут им гордиться. Мир годами отбирал носителей самой неподатливой, самой первозданной своей живучести, и ссылал их на эту скалу; и наследие мудрости и гения всех племен земных собрано здесь в кровяных шариках малой горсти людей – соборных Адама и Евы, чей каждый потомок будет отпрыском всех рас, создавших Канта и Сакьямуни, Наполеона и Исайю, Фидия и Линкольна, и Гайавату.
Второе наше преимущество – отсутствие металла. Корень всего зла на свете – металл. Я не только о железных мечах говорю, и не только о золотых червонцах: я говорю и о мирной производительной машине. Опасно для человека так всецело, так самодержавно властвовать над природой. Это противоестественно, и это отметится. Он рожден быть сыном, не господином природы. Сын может питаться от тела матери, может просить ее защиты и заботы: но если он делает из матери рабу, он кончит вырождением духа и тела. Это не риторика, это правда; это – то, что давно чувствовал каждый мыслитель, там за морями – в Аддио. Потому, что нет у нас металла, мы одни на всем свете вечно останемся бедными тружениками, чье золото – поте, чьи сны никогда не осквернятся грезой о богатстве. Я, и все со мною рожденные в мире железа, мы скоро умрем; и поколения, зачатые на этом острове, никогда не узнают болезненной похоти ощупывать все новые вещи, отравившей тот мир. Вот почему жизнь их будет жизнью стойкого равновесия; им не понадобится власть, как не нужна она деревьям в лесу. Этой большой правде научил нас Ландру. Шарль Ландру стоит теперь перед своим Создателем, великой грешник в одном существовании, великой учитель в другом. Я верю, что Создатель скажет ему „Чалан“ – слово приветствия, которым у нас поселенец встречает друга, и значит оно „мир“.
Третья причина превосходства нашего есть одиночество, – благословенное понятие итальянского мыслителя, который нагими послал нас на этот остров и перерезал трубу между нами и ядовитым воздухом старого мира., В памяти некоторых, в крови у всех из нас сохранились семена его достижений; еще не скоро, только в детях наших дадут росток эти семена; но то будут чистые колосья без сорной травинки, алмазы без примеси песку. Тогда, нищие, полудикари, мы вознесемся к могучим высотам духа. Ибо поле духа есть единственное, где справедливо человеку завоевывать, переступать ограду за оградой; дух – его царство, дух, а не природа. Как бы высоко ни воспарил он в эмпиреи духа, за это дерзание не ждет его кара; лишь бы не пытался он превратить мысль в вещество, в десятины земли, в бубенчики власти. Пред внуками нашими не будет приманок, чтоб ради них чеканить поддельные мысли: мыслить они будут только по велению пробудившегося духа. Это будут люди немногих дум, и думы их будут серьезны, глубоки и прекрасны.
Мы не боимся тех гостей, которых, с мешком и деревянной лопатой, все реже и реже, ночью высаживает на нашем берегу подводная каторжная лодка: они – наши, они с нами сольются. Я и о вашем посещении не жалею, мистер Флетчер: нам нечего скрывать. Но передайте вашему свету нашу страстную просьбу: не снимайте замка и печати с наших ворот, оставьте нас отверженными».
1930