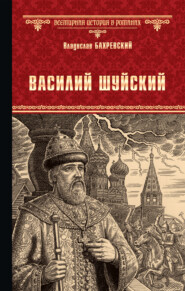По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тимош и Роксанда
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Богдан! – крикнул Ганжа на задремавшего гетмана. – Архиепископа Гнезенского убили.
Очнулся.
– Не верю! Я сам ему проезжую вручил, с моей личной подписью.
– Убили, – повторил Ганжа.
– Кто посмел? – Богдан спрыгнул с кровати. – Кто посмел перечить моей воле?
Оттолкнув Ганжу, схватил саблю.
– Кто посмел, спрашиваю?
– Казаки посмели.
Гетман метнул взгляд на дверь. Сжав в кулаке бархатную портьеру, в дверях стоял Максим Кривонос.
Зеленый свет лампады вызеленил тяжелые драпировки массивной, под балдахином, кровати, и лица людей были зелены, как плесень.
– А постеля-то! Боже ты мой! Воистину княжеская милость!
Кривонос прошел через спальню, сел на перину, попрыгал.
– На такой постеле нежиться – не то что пупок, мозги заплывут жиром.
Богдан сунул саблю в ножны, ногой придвинул к постели барабан, сел.
– Пришел правду в глаза говорить? Говори!
Кривонос потрогал пальцами шрам, рассекавший его лицо наискось. Глаза на этом лице стояли и далеко друг от друга, и один выше другого, и, если Кривонос глядел в упор, казалось, что на тебя смотрят два человека через одну пару глаз.
– Ты, Богдан, предал Украину, – сказал Кривонос тихо.
– Я дал ей жизнь, Максим. И славу! Об Украине ныне знает и говорит всякий язык на земле.
– Сначала ты не пожелал взять Львов, потом мы торчали под Замостьем, теряя драгоценное время. Теперь и вовсе уходим! Ты позволяешь врагу собрать силы, а свои уже раструсил. Вернемся мы на Украину и останемся ни с чем.
– Ганжа! Принеси Максиму выпить.
– Мне, Богдан, недосуг пить сладкие вина. От твоих кубков разит панским смердящим духом.
– Ты стараешься меня обидеть? Тогда запомни: что бы ты ни сказал и что бы о тебе ни говорили, я почитаю тебя за самого верного друга.
Богдан был совершенно трезв.
– Это я приказал схватить архиепископа и зарезать! – внятно и очень спокойно сообщил Кривонос. – Еще можно все поправить. Орда ушла, но у нас достаточно сил, чтоб ударить на Польшу. Тугай-бей с нами. Часть орды можно вернуть.
– Скоро зима, Максим!
– Но ты сам тянул время! Или для того и тянул, чтобы можно было сослаться на зиму? Чего ты ждешь от поляков? Они тебе все что угодно пообещают. Забыл участь Павлюка? Сам король изволил простить все его вины. Да только паны на короля чихать хотели.
Ганжа принес вино.
– Выпей! – сказал Богдан.
Кривонос отмахнулся. Богдан взял кубок и отпил несколько глотков.
– Как видишь, не отравлено.
Кривонос вскочил, вырвал у гетмана кубок, швырнул в угол.
– До питья ли?!
– Кривонос! – Гетман опустил лицо в ладони. – Ты славный и мудрый воин. Без тебя я не выиграл бы Корсунскую битву. Без тебя не одолел бы Вишневецкого. И под Пилявой ты был главной силой моей, моей надеждой.
– Да не виляй ты, Богданище! Подумаешь, Кривонос! Не будь меня, Данила Нечай сделал был то же! Не будь Нечая – Богун! Это не я побеждал шляхту, не ты, не Богун, не Данила – это народ наш бился и победил.
– Народ, говоришь? Народ поднимался много раз. И его ухлестывали плетьми. Нет, Максим, в твоих словах только половина правды. Народ народом, но у народа должен быть Богун, Нечай, Кривонос да еще Богдан. Можно выиграть двенадцать битв кряду и ничего не получить для своего народа. Максим, я пил – не ты, оглянись вокруг! Мы и полдела не сделали, все дела впереди. Скажу тебе, одному тебе скажу: не знаю, как устроить мир. Не знаю, Максим! Как воевать, знаю, а вот что с миром делать? Спроста ли турки посылают нам в помощь хана? Неспроста. Им нужно одолеть поляков. Поляки стоят на их пути, на пути ислама. У семиградского князя своя забота. Присылал ко мне верного человека, уговаривал добыть ему польскую корону, а он за то признает меня князем. А ведь еще есть Москва. Она хочет ослабления и Польши, и Турции.
– Но черт побрал, архиепископа я прикокошил все-таки! – закричал Кривонос. – Кончать нужно Речь Посполитую!
– Максим, хватит ли у тебя пальцев, чтобы посчитать вереницы лет польского засилья? Не хватит, Максим! А Украина жива! Да еще как жива. Не пойду я огнем и мечом по Польше. Нынче мы воюем с Вишневецким и панами, а тогда придется воевать со всей Речью Посполитой. Это не одно и то же, Максим.
– Заговорил-таки зубы! – Кривонос яростно крутился на каблуке волчком. – Ганжа, принеси вина! Заговорил ты мне зубы, вражий сын. Я уже уши развесил! Я уже слушаю… и согласен с тобой. Но, Богдан! Я тебя знаю! Ты вон в какую постель залез. Весь в соболях, в камешках блестящих. Богдан, ты бровью не поведешь, когда на украинский народ накинут новое ярмо. Позлащенное, может быть, но все то же ярмо. Да будет тебе ведомо, пока я жив, тому не бывать.
Ганжа принес новый кубок.
Кривонос выпил, роняя капли на синий простецкий жупан.
– Утро вечера мудренее, Богдан! Поеду! Там у меня казаки чего-то расхворались.
Хмельницкий вскинул брови, потянулся остановить полковника.
– Догони его! Ганжа! Верни! – Богдан вскочил на ноги, увидал, что в одном сапоге, нашел и натянул другой.
– Что еще не досказал? – спросил из дверей Кривонос.
Богдан поманил его рукой вглубь спальни. Кривонос упрямился, стоял на месте.
– Некогда мне, Богдан! – повернулся уходить.
– Стой! – гаркнул гетман. – Иди сюда.
Кривонос хмыкнул, но подошел. Богдан потянулся, взял полковника за голову, шепнул ему в ухо:
– Не езжай к своим хворым казакам. Я легко согласился с говорильней Смяровского потому, что с запада идет моровая язва. Завтра еще до восхода солнца войска мои не отойдут, а побегут по моему приказу. От чумы побегут.
Кривонос отшатнулся.
Очнулся.
– Не верю! Я сам ему проезжую вручил, с моей личной подписью.
– Убили, – повторил Ганжа.
– Кто посмел? – Богдан спрыгнул с кровати. – Кто посмел перечить моей воле?
Оттолкнув Ганжу, схватил саблю.
– Кто посмел, спрашиваю?
– Казаки посмели.
Гетман метнул взгляд на дверь. Сжав в кулаке бархатную портьеру, в дверях стоял Максим Кривонос.
Зеленый свет лампады вызеленил тяжелые драпировки массивной, под балдахином, кровати, и лица людей были зелены, как плесень.
– А постеля-то! Боже ты мой! Воистину княжеская милость!
Кривонос прошел через спальню, сел на перину, попрыгал.
– На такой постеле нежиться – не то что пупок, мозги заплывут жиром.
Богдан сунул саблю в ножны, ногой придвинул к постели барабан, сел.
– Пришел правду в глаза говорить? Говори!
Кривонос потрогал пальцами шрам, рассекавший его лицо наискось. Глаза на этом лице стояли и далеко друг от друга, и один выше другого, и, если Кривонос глядел в упор, казалось, что на тебя смотрят два человека через одну пару глаз.
– Ты, Богдан, предал Украину, – сказал Кривонос тихо.
– Я дал ей жизнь, Максим. И славу! Об Украине ныне знает и говорит всякий язык на земле.
– Сначала ты не пожелал взять Львов, потом мы торчали под Замостьем, теряя драгоценное время. Теперь и вовсе уходим! Ты позволяешь врагу собрать силы, а свои уже раструсил. Вернемся мы на Украину и останемся ни с чем.
– Ганжа! Принеси Максиму выпить.
– Мне, Богдан, недосуг пить сладкие вина. От твоих кубков разит панским смердящим духом.
– Ты стараешься меня обидеть? Тогда запомни: что бы ты ни сказал и что бы о тебе ни говорили, я почитаю тебя за самого верного друга.
Богдан был совершенно трезв.
– Это я приказал схватить архиепископа и зарезать! – внятно и очень спокойно сообщил Кривонос. – Еще можно все поправить. Орда ушла, но у нас достаточно сил, чтоб ударить на Польшу. Тугай-бей с нами. Часть орды можно вернуть.
– Скоро зима, Максим!
– Но ты сам тянул время! Или для того и тянул, чтобы можно было сослаться на зиму? Чего ты ждешь от поляков? Они тебе все что угодно пообещают. Забыл участь Павлюка? Сам король изволил простить все его вины. Да только паны на короля чихать хотели.
Ганжа принес вино.
– Выпей! – сказал Богдан.
Кривонос отмахнулся. Богдан взял кубок и отпил несколько глотков.
– Как видишь, не отравлено.
Кривонос вскочил, вырвал у гетмана кубок, швырнул в угол.
– До питья ли?!
– Кривонос! – Гетман опустил лицо в ладони. – Ты славный и мудрый воин. Без тебя я не выиграл бы Корсунскую битву. Без тебя не одолел бы Вишневецкого. И под Пилявой ты был главной силой моей, моей надеждой.
– Да не виляй ты, Богданище! Подумаешь, Кривонос! Не будь меня, Данила Нечай сделал был то же! Не будь Нечая – Богун! Это не я побеждал шляхту, не ты, не Богун, не Данила – это народ наш бился и победил.
– Народ, говоришь? Народ поднимался много раз. И его ухлестывали плетьми. Нет, Максим, в твоих словах только половина правды. Народ народом, но у народа должен быть Богун, Нечай, Кривонос да еще Богдан. Можно выиграть двенадцать битв кряду и ничего не получить для своего народа. Максим, я пил – не ты, оглянись вокруг! Мы и полдела не сделали, все дела впереди. Скажу тебе, одному тебе скажу: не знаю, как устроить мир. Не знаю, Максим! Как воевать, знаю, а вот что с миром делать? Спроста ли турки посылают нам в помощь хана? Неспроста. Им нужно одолеть поляков. Поляки стоят на их пути, на пути ислама. У семиградского князя своя забота. Присылал ко мне верного человека, уговаривал добыть ему польскую корону, а он за то признает меня князем. А ведь еще есть Москва. Она хочет ослабления и Польши, и Турции.
– Но черт побрал, архиепископа я прикокошил все-таки! – закричал Кривонос. – Кончать нужно Речь Посполитую!
– Максим, хватит ли у тебя пальцев, чтобы посчитать вереницы лет польского засилья? Не хватит, Максим! А Украина жива! Да еще как жива. Не пойду я огнем и мечом по Польше. Нынче мы воюем с Вишневецким и панами, а тогда придется воевать со всей Речью Посполитой. Это не одно и то же, Максим.
– Заговорил-таки зубы! – Кривонос яростно крутился на каблуке волчком. – Ганжа, принеси вина! Заговорил ты мне зубы, вражий сын. Я уже уши развесил! Я уже слушаю… и согласен с тобой. Но, Богдан! Я тебя знаю! Ты вон в какую постель залез. Весь в соболях, в камешках блестящих. Богдан, ты бровью не поведешь, когда на украинский народ накинут новое ярмо. Позлащенное, может быть, но все то же ярмо. Да будет тебе ведомо, пока я жив, тому не бывать.
Ганжа принес новый кубок.
Кривонос выпил, роняя капли на синий простецкий жупан.
– Утро вечера мудренее, Богдан! Поеду! Там у меня казаки чего-то расхворались.
Хмельницкий вскинул брови, потянулся остановить полковника.
– Догони его! Ганжа! Верни! – Богдан вскочил на ноги, увидал, что в одном сапоге, нашел и натянул другой.
– Что еще не досказал? – спросил из дверей Кривонос.
Богдан поманил его рукой вглубь спальни. Кривонос упрямился, стоял на месте.
– Некогда мне, Богдан! – повернулся уходить.
– Стой! – гаркнул гетман. – Иди сюда.
Кривонос хмыкнул, но подошел. Богдан потянулся, взял полковника за голову, шепнул ему в ухо:
– Не езжай к своим хворым казакам. Я легко согласился с говорильней Смяровского потому, что с запада идет моровая язва. Завтра еще до восхода солнца войска мои не отойдут, а побегут по моему приказу. От чумы побегут.
Кривонос отшатнулся.