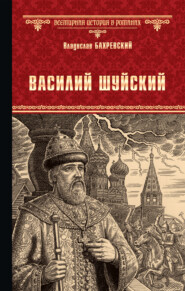По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Поцелуй меня в глазки. Мне глазки папа целовал, когда я ложилась. Ты будешь приходить к моей постельке?
Пришлось признаться:
– Я завтра уезжаю, Машенька. Каникулы у меня кончились.
– Я буду тебя ждать! – и приникла еще крепче, больнее.
Андрей Тургенев
В Москве, глянув в святцы, Василий Андреевич узнал: Агапия – любовь.
Они простились на заре в день его отъезда. Вышел, как всегда, с птицами поздороваться, а она ждет за углом флигелька. В руках венок из колокольчиков. Подбежала, увенчала, кинулась прочь. Он и сказать ей ничего не успел.
Теперь это жило в нем: зазвенят надзиратели в колокольчик, а у него в глазах – иные звоны, синие.
Да ведь жизнь – река. Как ледяною водою после бани, окатило Жуковского славой. Сначала ужас, а потом – блаженство.
Баккаревич на весь пансион превознес «Майское утро» и особливо «Мысли при гробнице». Оказывается, Михаил Никитич сам сочинил подобное – «Надгробный памятник», но педагог-то истинный! – с воодушевлением признал в творениях ученика достоинства превосходнейшие и неоспоримые.
Стихи и проза пансионера были помещены в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». Читаны в пансионе, в Университете.
Ах, как дивно взирать на имя свое, печатно врезанное в анналы времени: «Сочинитель Благородного университетского пансиона воспитанник Василий Жуковский».
Сочинителя одарило вниманием начальство. Инспектор Антон Антонович Прокопович-Антонский пригласил пансионера к себе домой, поднес книгу Христофа-Христиана Штурма «Утренние и вечерние размышления на каждый день года», предложил для весенних Публичных актов, на которых бывает вся именитая Москва, сочинить оду во славу императора Павла Петровича.
Официальное признание дорого, но еще дороже признание просвещенной публики. Со знаменитостями жаждут знакомства.
Сияя толстыми щеками, Саша Тургенев объявил товарищу:
– Мой брат Андрей приглашает тебя для беседы и обсуждения сочинений.
Андрей – студент Университета, ему шестнадцать!
У Тургеневых Жуковский был уже два раза: Саша давал ему книги из библиотеки отца. Главу семейства Ивана Петровича Жуковский видел в пансионе. Знал младшего Тургенева, Николая. Ему восемь лет.
И вот – Андрей.
Малиновый стоячий воротник студенческого мундира подчеркивает белизну лица. О таких лицах принято говорить – утонченное. Кудрявые короткие волосы. Красивые губы ласковы, но сложены строго. Андрей приготовился к беседе значительной. В шестнадцать лет всякая беседа о вечности.
– Здравствуйте, Жуковский! – Рука истинно аристократическая, женственной белизны и склада, а силы мужской. – Я вас читал.
– А я читал ваши философские брошюры. Александр приносил.
– Всего лишь переводы. Научные тексты творчества не терпят. Но я теперь перевожу драму Августа Коцебу, – улыбнулся. – Где поэзия – там воля.
Они прошли в библиотеку, сели в кресла.
– Жуковский, это все сочинено до нас. За десятки, за сотни, за тысячи лет до нашего рождения. – Андрей повел рукою, показывая на стены с книгами. – Жуковский, вам не страшно?
– Если об этом не думать – не страшно.
– Но возможно ли – не думать? Возможно ли не повторить открытого задолго до нас? – На висках Андрея проступали голубые жилочки. Чудилось, можно подсмотреть, как складываются мысли в этой светлой голове.
Весь вчерашний день у Васеньки вспотевали ладони, когда он думал о предстоящей встрече, но Андрей не экзаменовал, Андрей искал ответа на высокие вопросы, не стыдясь собственной беспомощности.
– Мы никого не повторим, Бог дает нам жизни неповторимые.
– Жуковский! Вы – гений! – Андрей вскочил, потряс руку собеседнику, придвинул лицо – глаза в глаза. – Но ведь русская литература – в состоянии зачатия. Нашей учебе – век. Мы еще в первом классе.
– Виршами Симеона Полоцкого начиналась российская пиитика, но теперь у нас Карамзин! – Васенька слышал свой голос, и в сердце у него было жарко: он говорил с Андреем Тургеневым, как ровня.
Андрей усмехнулся.
– Карамзин – Европа. Верно, Жуковский! Карамзин прорубил окно словом, как Петр Великий топором… Да, он научился у французов говорить о чувствах, но, Жуковский, – я этого не смогу толково изъяснить, однако ж представляю с ужасающей четкостью: Карамзин говорит русскими словами, но думает-то он по-французски. И чувствует – по-французски! Разве его Лиза – крестьянка?
– Лиза – поселянка…
– Хорошо, поселянка. Дочь свободного землепашца, не крепостная. С крепостной девкой нежносердый Эраст долго бы не церемонился.
Василий Андреевич холодеет и пламенеет, помня Агапку, но как можно сомневаться в гении Карамзина?
– Ведь все это о русских людях. Через Карамзина Европа и весь мир узнают сердце русского народа. Тургенев, вспомните! – И процитировал на память: – «Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях своих бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся Натура пребывала в молчании». Это прекрасно!
– Красиво, Жуковский… Это очень красиво. Но жизнь-то выдуманная, и выдуманная по иноземным образцам. Мне омерзительны пасторальные нежности омерзительных скотов, торгующих русскими людьми… Карамзин превосходно подменяет русскую жизнь – европейской, а сие не что иное, как сокрытие от просвещенного мира ужасающего рабства, цветущего в нашем Отечестве… Слёз в «Бедной Лизе» – море, но великие страсти Карамзину неведомы… Жуковский, вы хорошо знаете Шиллера? Ах, вы только слышали о Шиллере, так внемлите!
И прочитал по-немецки «Оду радости».
– Жуковский, вы чувствуете? Это иное! Это не московские пруды Карамзина. Это – океан. Океан человеческого сознания. И, главное, – стремлений!
В глазах Андрея сверкал восторг.
– А Гёте?! Жуковский, вы читали Гёте? Не смущайтесь! Я завидую вам. В Гёте вы откроете для себя величайшую поэзию, горний мир природного немецкого величия и высокоумия.
Андрей взял с полки книгу, положил перед Жуковским:
ПРИЗВАНИЕ ХУДОЖНИКА
Когда бы клад высоких сил
В груди, звеня, открылся!
И мир, что в сердце зрел и жил,
Из недр к перстам пролился!
Бросает в дрожь, терзает боль,
Но не могу смириться,
Всем одарив меня, изволь,
Природа, покориться!
Это прочитал вошедший в библиотеку высокий молодой человек, крутоплечий, как ямщик, да и с лицом, пожалуй что, ямщицким. Волосы начесаны на лоб, отчего голова кажется приплюснутой.
– Алексей Федорович Мерзляков! Поэт и студент, – представил хозяин. – Василий Андреевич Жуковский. Поэт, прозаик, пансионер. А мы трое – будущее русской литературы. Быть ей великой!
Пришлось признаться:
– Я завтра уезжаю, Машенька. Каникулы у меня кончились.
– Я буду тебя ждать! – и приникла еще крепче, больнее.
Андрей Тургенев
В Москве, глянув в святцы, Василий Андреевич узнал: Агапия – любовь.
Они простились на заре в день его отъезда. Вышел, как всегда, с птицами поздороваться, а она ждет за углом флигелька. В руках венок из колокольчиков. Подбежала, увенчала, кинулась прочь. Он и сказать ей ничего не успел.
Теперь это жило в нем: зазвенят надзиратели в колокольчик, а у него в глазах – иные звоны, синие.
Да ведь жизнь – река. Как ледяною водою после бани, окатило Жуковского славой. Сначала ужас, а потом – блаженство.
Баккаревич на весь пансион превознес «Майское утро» и особливо «Мысли при гробнице». Оказывается, Михаил Никитич сам сочинил подобное – «Надгробный памятник», но педагог-то истинный! – с воодушевлением признал в творениях ученика достоинства превосходнейшие и неоспоримые.
Стихи и проза пансионера были помещены в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». Читаны в пансионе, в Университете.
Ах, как дивно взирать на имя свое, печатно врезанное в анналы времени: «Сочинитель Благородного университетского пансиона воспитанник Василий Жуковский».
Сочинителя одарило вниманием начальство. Инспектор Антон Антонович Прокопович-Антонский пригласил пансионера к себе домой, поднес книгу Христофа-Христиана Штурма «Утренние и вечерние размышления на каждый день года», предложил для весенних Публичных актов, на которых бывает вся именитая Москва, сочинить оду во славу императора Павла Петровича.
Официальное признание дорого, но еще дороже признание просвещенной публики. Со знаменитостями жаждут знакомства.
Сияя толстыми щеками, Саша Тургенев объявил товарищу:
– Мой брат Андрей приглашает тебя для беседы и обсуждения сочинений.
Андрей – студент Университета, ему шестнадцать!
У Тургеневых Жуковский был уже два раза: Саша давал ему книги из библиотеки отца. Главу семейства Ивана Петровича Жуковский видел в пансионе. Знал младшего Тургенева, Николая. Ему восемь лет.
И вот – Андрей.
Малиновый стоячий воротник студенческого мундира подчеркивает белизну лица. О таких лицах принято говорить – утонченное. Кудрявые короткие волосы. Красивые губы ласковы, но сложены строго. Андрей приготовился к беседе значительной. В шестнадцать лет всякая беседа о вечности.
– Здравствуйте, Жуковский! – Рука истинно аристократическая, женственной белизны и склада, а силы мужской. – Я вас читал.
– А я читал ваши философские брошюры. Александр приносил.
– Всего лишь переводы. Научные тексты творчества не терпят. Но я теперь перевожу драму Августа Коцебу, – улыбнулся. – Где поэзия – там воля.
Они прошли в библиотеку, сели в кресла.
– Жуковский, это все сочинено до нас. За десятки, за сотни, за тысячи лет до нашего рождения. – Андрей повел рукою, показывая на стены с книгами. – Жуковский, вам не страшно?
– Если об этом не думать – не страшно.
– Но возможно ли – не думать? Возможно ли не повторить открытого задолго до нас? – На висках Андрея проступали голубые жилочки. Чудилось, можно подсмотреть, как складываются мысли в этой светлой голове.
Весь вчерашний день у Васеньки вспотевали ладони, когда он думал о предстоящей встрече, но Андрей не экзаменовал, Андрей искал ответа на высокие вопросы, не стыдясь собственной беспомощности.
– Мы никого не повторим, Бог дает нам жизни неповторимые.
– Жуковский! Вы – гений! – Андрей вскочил, потряс руку собеседнику, придвинул лицо – глаза в глаза. – Но ведь русская литература – в состоянии зачатия. Нашей учебе – век. Мы еще в первом классе.
– Виршами Симеона Полоцкого начиналась российская пиитика, но теперь у нас Карамзин! – Васенька слышал свой голос, и в сердце у него было жарко: он говорил с Андреем Тургеневым, как ровня.
Андрей усмехнулся.
– Карамзин – Европа. Верно, Жуковский! Карамзин прорубил окно словом, как Петр Великий топором… Да, он научился у французов говорить о чувствах, но, Жуковский, – я этого не смогу толково изъяснить, однако ж представляю с ужасающей четкостью: Карамзин говорит русскими словами, но думает-то он по-французски. И чувствует – по-французски! Разве его Лиза – крестьянка?
– Лиза – поселянка…
– Хорошо, поселянка. Дочь свободного землепашца, не крепостная. С крепостной девкой нежносердый Эраст долго бы не церемонился.
Василий Андреевич холодеет и пламенеет, помня Агапку, но как можно сомневаться в гении Карамзина?
– Ведь все это о русских людях. Через Карамзина Европа и весь мир узнают сердце русского народа. Тургенев, вспомните! – И процитировал на память: – «Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях своих бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся Натура пребывала в молчании». Это прекрасно!
– Красиво, Жуковский… Это очень красиво. Но жизнь-то выдуманная, и выдуманная по иноземным образцам. Мне омерзительны пасторальные нежности омерзительных скотов, торгующих русскими людьми… Карамзин превосходно подменяет русскую жизнь – европейской, а сие не что иное, как сокрытие от просвещенного мира ужасающего рабства, цветущего в нашем Отечестве… Слёз в «Бедной Лизе» – море, но великие страсти Карамзину неведомы… Жуковский, вы хорошо знаете Шиллера? Ах, вы только слышали о Шиллере, так внемлите!
И прочитал по-немецки «Оду радости».
– Жуковский, вы чувствуете? Это иное! Это не московские пруды Карамзина. Это – океан. Океан человеческого сознания. И, главное, – стремлений!
В глазах Андрея сверкал восторг.
– А Гёте?! Жуковский, вы читали Гёте? Не смущайтесь! Я завидую вам. В Гёте вы откроете для себя величайшую поэзию, горний мир природного немецкого величия и высокоумия.
Андрей взял с полки книгу, положил перед Жуковским:
ПРИЗВАНИЕ ХУДОЖНИКА
Когда бы клад высоких сил
В груди, звеня, открылся!
И мир, что в сердце зрел и жил,
Из недр к перстам пролился!
Бросает в дрожь, терзает боль,
Но не могу смириться,
Всем одарив меня, изволь,
Природа, покориться!
Это прочитал вошедший в библиотеку высокий молодой человек, крутоплечий, как ямщик, да и с лицом, пожалуй что, ямщицким. Волосы начесаны на лоб, отчего голова кажется приплюснутой.
– Алексей Федорович Мерзляков! Поэт и студент, – представил хозяин. – Василий Андреевич Жуковский. Поэт, прозаик, пансионер. А мы трое – будущее русской литературы. Быть ей великой!