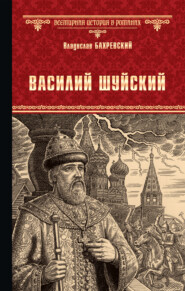По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царская карусель. Мундир и фрак Жуковского
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Расхохотался громко и так заразительно, что и Василий Андреевич не удержался, глядя, сколь широко растягиваются губы на простецком лице нового знакомого.
– Ваш братец нынче прямо-таки изумил меня, – сказал Мерзляков. – Ни единой ошибки в диктовке, а слова подобрал я самые мудрёные.
– Алексей Федорович дает Николеньке уроки русского и латыни, – пояснил Андрей. – Представляете, Жуковский, русский и латынь для Мерзлякова совершенно своя стихия. Но то же приходится сказать о древнегреческом, о французском, немецком, итальянском. И это в девятнадцать лет!
– Увы! В девятнадцать! – серьезно сказал Мерзляков. – В Долматове учителей не было. Глухомань-матушка.
– А где это? – спросил Василий Андреевич.
– В Пермской губернии. Мой батюшка купеческого рода, но торговлишка у нас мелкая. Мне о науках и мечтать было невозможно, кабы не стихи.
– Жуковский, а сколько вам лет? – полюбопытствовал Андрей.
Василий Андреевич покраснел:
– Четырнадцать.
– И Мерзлякову было четырнадцать, когда его оду напечатали в «Российском магазине». Не о царях. Оду на мир со Швецией.
– Оставь, Андрей!
– Как же оставить? Я вижу в совпадении нечто пророческое. Пииты Екатерининских времен, Елизаветинских и еще более ранних начинали далеко за двадцать лет. Тредиаковский свое «Прошение любве» напечатал в двадцать семь, Ломоносов первые оды сочинил в тридцать. Сумароковские элегии появились, когда автору было тридцать восемь. А наше поколение являет себя миру – в четырнадцать! Господа, мир помолодел!
– Все от нужды, – сказал Мерзляков. – Явилась нужда в сочинителях, и ради моей оды я был взят в Москву, в университетскую гимназию.
– Жуковский, мы с Мерзляковым собираемся сделать новый перевод Вертера. Перевод, достойный Гёте. – Глаза Андрея сделались требовательными. – А каковы ваши устремления?
– Господин инспектор поручил мне к акту сочинить оду в честь Павла Петровича… Теперь по совету Антона Антоновича я изучаю Штурма.
– Вездесущий Штурм! – Андрей вскочил, снял с полки книгу, прочитал, кривя лицо от возмущения:
– «Рабство есть определение Божие и имеет многие выгоды…» Выгоды! «Оно устраняет от тебя заботы и прискорбия жизни». Устраняет? От попирающего человеческое достоинство?.. «Честь раба есть его верность, отличные добродетели его суть – покорность и послушание». Вот оно, обожествление тирании. Обожествление жизни червя, коему судьбой назначено рыхлить землю и собою унаваживать ее… Для того ли жизнь дана, господа? Разве образ Бога на одних помещиках? На рабах, господа, на несчастных крепостных наших тот же самый Пресветлый. Творцу мира неведомы устремления низшие. Он – Свет, Он – Вселенная. Огонь, рождающий миры. Вот моя религия, господа. Что же до нас… Жуковский, Мерзляков! Если мы избраны быть словом, то наше дело – звать человека к подвигу, нашим миром должен быть мир героев и уж никак не рабов.
Василий Андреевич, вернувшись в пансион, впервые пожалел, что надо ложиться спать, есть, пить, слушать Баккаревича, хотелось к Андрею. В Андрее было больше, чем в книгах, даже в том же Гёте.
И вдруг вспомнил Мерзлякова, его деревенскую улыбку и нежданно обидные слова о Карамзине.
– Что вы с ним носитесь? «Бедная Лиза»! «Письма русского путешественника»! Не спорю, Карамзин блюдо сладкое. Сладко, да не мёд. Патока! Все сочиненное Николаем Михайловичем встречено громким «Ура!». Но хваленый русский язык его, как постель невинной девицы, чистенько, мягонько и всюду кружева.
– Если Карамзин патока, то что же мед? – спросил Андрей.
– «Песнь песней», господа. И крестьянские песни! Возьмите хоть мою пермскую глухомань, хоть вологодскую, нижегородскую… Не с тех цветов, знать, собирает свой нектар наш светоч. Но и то правда – иного у нас нет!
– Будут! – крикнул Андрей.
Это «будут» даже приснилось Жуковскому. Он и сам крикнул и проснулся.
Успехи
Публичный акт перенесли с весны на зиму.
19 декабря 1797 года воспитанник Благородного университетского пансиона Василий Жуковский предстал пред увенчанным государственными сединами и славою российского пиита, пред самим Михаилом Матвеевичем Херасковым, создателем пансиона, бывшим директором, ныне попечителем Московского университета. Лента через плечо, ордена. Лицо открытое, приветливое, а посмотреть страшно – сама история. Но полетела первая строка, и отчаянье, ударившись крылами о бездонную громаду зала, тотчас обернулось восторгом.
Откуда тишина златая
В блаженной северной стране?
Чьей мощною рукой покрыта,
Ликует в радости она?
В ней воздух светел, небо ясно,
Не видно туч, не слышно бурь.
Как реки в долах тихо льются,
Так счастья льются в ней струи.
Жуковский плыл по волнам слов в никуда, не видя лиц, но оды пространны, и, пообвыкнув, он ощутил внимание. Когда же прочитал строки: «Его недремлющее око / Всегда на чад устремлено» – увидел одобрительный кивок великого Хераскова.
– О, россы! О, дражайши россы! – восклицал чтец, уже любя свои стихи.
Не царь – отец, отец вам Павел,
Ко благу, к славе верный вождь.
Ступайте вслед за ним, спешите:
Он в храм бессмертья вас ведет!
……………………………………
Питайте огнь к нему любови,
Питайте с самых юных лет,
Чтоб после быть его сынами,
И жизнью жертвовать ему.
Ода кончилась, и следовало бы умереть. Слава богу, обошлось. И увы! Сей день не стал днем Жуковского. Золотую медаль, а к ней флейту, Херасков вручил Александру Чемезову за стихи «К счастливой юности». Ода Жуковского «Благоденствие России, устрояемое великим ея самодержцем Павлом I» удостоена была серебряной медали.
Минул год, год дружбы с Андреем Тургеневым, и снова Публичный акт и суд не токмо Хераскова, но, пожалуй что, самого XVIII столетия, еще не минувшего, но изжившего себя.
В «Добродетели» юного сочинителя пламенела неприязнь ко времени, стало быть, к тому, кого сам же славил год тому назад:
Иной гордыни чтит законы,
Идет неправды по стезям;
Иной коварству зиждет троны
И дышит лестию к царям.
Смелые стихи пленили Михаила Матвеевича, но более проза. «Слово об Иване Владимировиче Лопухине»:
– «Пускай напыщенный богач ступает по златошвейным коврам персидским! – Лицо оратора пламенело вдохновенным гневом. – Пускай стены чертогов его сияют в злате: злато сие, многоцветные исткания сии – они помрачены вздохом угнетенного, кровию измученного раба!»
Херасков пришел в восторг. Лопухин, старый его товарищ, был подвержен русскому юродству. Половину состояния раздал калекам и прочей московской нищете. Память о верном соратнике Новикова дорога, но дороже направление юношества. Будущая Россия не потерпит тирании, вон как глаза-то горят у питомца Антона Антоновича! Мысль Новикова и масонов обретает плоть.
Жуковскому – золотая медаль. Жуковский – первый ученик Благородного пансиона.
На этом памятном для Пансиона акте 1798 года воспитанникам было предложено сделать свободный выбор лучших в трех возрастах. В большом возрасте избранниками стали Сергей Костомаров и Василий Жуковский, в среднем – Константин Кириченко-Остромов и Степан Порошин, в младшем – Алексей Вельяминов и Степан Вольховский.