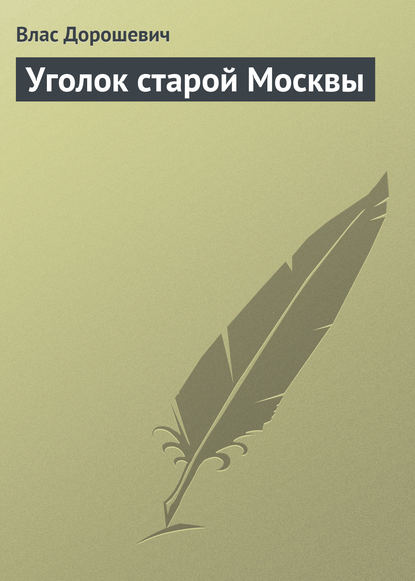По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Уголок старой Москвы
Жанр
Год написания книги
1916
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У него это была добродушная богема.
Целый день этот человек твердил то одним, то другим малышам:
– Буква «Г». Большая. Пишется так. Смотрите. А вечером предавался творчеству. Настоящему художественному творчеству.
На «блюдечке» игрушечного театра, с гимназистами. Почему он тогда же не отдался призванию, таланту, а «тянул лямку» учителя чистописания?
Почему не пошел на сцену? Мне кажется, что:
– По робости.
Отличительной чертой этого художника с шевелюрой «а 1а черт меня побери» была:
– Робость.
Робость перед жизнью.
Жизнь – страшная штука.
Вроде нависших скал на Военно-Грузинской дороге:
– Пронеси, господи.
Может быть, самое лучшее – пройти ее, зажмурясь. Артем глядел на жизнь широко раскрытыми, испуганными глазами. Маленького человека пугала эта огромная, нависшая над ним глыба – жизнь.
Вот-вот рухнет и раздавит.
– Служба, братец, это все-таки определенное. А сцена… и-и… Он боялся пойти в провинцию.
Где не платят, где антрепренеры бегают, где сидят на мели. Боялся частных театров.
– А вдруг прогорит!
А поступить на «настоящую» сцену, на казенную, на «образцовую», на великую, на Малую, тогда было:
– Нечего и мечтать.
На Малой сцене не могли и представить себе, что где-нибудь кто-нибудь может играть:
– Кроме них.
Самарин и вообще-то театром называл только Малый театр. Кажется, даже решившись наконец поступить в театр, – в Художественный театр, – Артем все-таки продолжал преподавать:
– Буква «А». Большая. Пишется так! Пока не дослужился до пенсии.
– На всякий случай!
– Мало ли что может случиться!
Мне приходилось слышать в воспоминаниях об Артеме, всегда нежных, всегда трогательных, всегда полных любви, добродушное подтрунивание:
– Дедушка был-таки скуповат!
Я думаю, что эта скупость была продиктована не жадностью, – о, нет, – не любовью к деньгам, – а той же боязнью перед жизнью.
– А вдруг!
– Мало ли что может случиться! Жизнь – страшная штука. Вдруг все лопнет!
С этой боязнью перед жизнью, с этой тревогой, мне кажется, он жил до последнего дня.
Мир его милой памяти!
Милый Артем!
Если бы Секретаревка и Немчиновка, – или, как их еще непочтительнее звали в старой Москве:
– Секретаревская и Немчиновская «дыры», дали русскому искусству только Рощина и Артема, – и тогда их заслуга немала перед «настоящей» сценой.
Настоящие актеры режиссировали Бурлаками и Козельскими.
Особенно славился как режиссер Далматов.
Я познакомился с ним в Пушкинском театре Бренко.
Какое счастье! За кулисами.
Крошечная уборная:
– Писарева. Полно народу.
Едва дыша, я сижу где-то в уголке, около таза, полного мыльной водой.
У гримировального стола сидит сам Модест Иванович и поющим баском что-то говорит.
Около Глама-Мещерская, как произносят одни. «Сама» Глама, как выговаривают другие. Красота, вся изящество, вся грация, вся женственность – Глама-Мещерская, про которую в Москве сложились стихи:
Будь ты хоть Глама, хоть Глама, Ты все же нас свела с ума.
Тут же Бурлак, – настоящий Бурлак. Рютчи, Козельский. Собрание богов. Идет какой-то спор.
И вдруг в средине спора в уборную влетает человек в «соединенных штатах», – как говорилось тогда, – но совершенно без рубашки, с торсом атлета. Далматов.
– Во-первых! – вступает он в спор, делая красивый жест рукой.
– Во-первых, – прерывает его г-жа Бренко, – Василий Пантелеймонович, оденьтесь!
– Parrrrrdon! Общий хохот.
Целый день этот человек твердил то одним, то другим малышам:
– Буква «Г». Большая. Пишется так. Смотрите. А вечером предавался творчеству. Настоящему художественному творчеству.
На «блюдечке» игрушечного театра, с гимназистами. Почему он тогда же не отдался призванию, таланту, а «тянул лямку» учителя чистописания?
Почему не пошел на сцену? Мне кажется, что:
– По робости.
Отличительной чертой этого художника с шевелюрой «а 1а черт меня побери» была:
– Робость.
Робость перед жизнью.
Жизнь – страшная штука.
Вроде нависших скал на Военно-Грузинской дороге:
– Пронеси, господи.
Может быть, самое лучшее – пройти ее, зажмурясь. Артем глядел на жизнь широко раскрытыми, испуганными глазами. Маленького человека пугала эта огромная, нависшая над ним глыба – жизнь.
Вот-вот рухнет и раздавит.
– Служба, братец, это все-таки определенное. А сцена… и-и… Он боялся пойти в провинцию.
Где не платят, где антрепренеры бегают, где сидят на мели. Боялся частных театров.
– А вдруг прогорит!
А поступить на «настоящую» сцену, на казенную, на «образцовую», на великую, на Малую, тогда было:
– Нечего и мечтать.
На Малой сцене не могли и представить себе, что где-нибудь кто-нибудь может играть:
– Кроме них.
Самарин и вообще-то театром называл только Малый театр. Кажется, даже решившись наконец поступить в театр, – в Художественный театр, – Артем все-таки продолжал преподавать:
– Буква «А». Большая. Пишется так! Пока не дослужился до пенсии.
– На всякий случай!
– Мало ли что может случиться!
Мне приходилось слышать в воспоминаниях об Артеме, всегда нежных, всегда трогательных, всегда полных любви, добродушное подтрунивание:
– Дедушка был-таки скуповат!
Я думаю, что эта скупость была продиктована не жадностью, – о, нет, – не любовью к деньгам, – а той же боязнью перед жизнью.
– А вдруг!
– Мало ли что может случиться! Жизнь – страшная штука. Вдруг все лопнет!
С этой боязнью перед жизнью, с этой тревогой, мне кажется, он жил до последнего дня.
Мир его милой памяти!
Милый Артем!
Если бы Секретаревка и Немчиновка, – или, как их еще непочтительнее звали в старой Москве:
– Секретаревская и Немчиновская «дыры», дали русскому искусству только Рощина и Артема, – и тогда их заслуга немала перед «настоящей» сценой.
Настоящие актеры режиссировали Бурлаками и Козельскими.
Особенно славился как режиссер Далматов.
Я познакомился с ним в Пушкинском театре Бренко.
Какое счастье! За кулисами.
Крошечная уборная:
– Писарева. Полно народу.
Едва дыша, я сижу где-то в уголке, около таза, полного мыльной водой.
У гримировального стола сидит сам Модест Иванович и поющим баском что-то говорит.
Около Глама-Мещерская, как произносят одни. «Сама» Глама, как выговаривают другие. Красота, вся изящество, вся грация, вся женственность – Глама-Мещерская, про которую в Москве сложились стихи:
Будь ты хоть Глама, хоть Глама, Ты все же нас свела с ума.
Тут же Бурлак, – настоящий Бурлак. Рютчи, Козельский. Собрание богов. Идет какой-то спор.
И вдруг в средине спора в уборную влетает человек в «соединенных штатах», – как говорилось тогда, – но совершенно без рубашки, с торсом атлета. Далматов.
– Во-первых! – вступает он в спор, делая красивый жест рукой.
– Во-первых, – прерывает его г-жа Бренко, – Василий Пантелеймонович, оденьтесь!
– Parrrrrdon! Общий хохот.