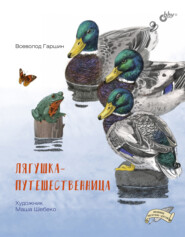По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сигнал
Год написания книги
1887
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сигнал
Всеволод Михайлович Гаршин
«Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой – десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было…»
Всеволод Михайлович Гаршин
Сигнал
Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой – десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было.
Семен Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он, и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и пятидесяти верст в жару и в мороз; случалось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии; целую неделю с турками перестрелка была: лежит наша цепь, а через лощинку – турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семенов офицер тоже в цепи был; каждый – день три раза носил ему Семен из полковых кухонь, из оврага, самовар горячий и обед. Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают; страшно Семену, плачет, а сам идет. Господа офицеры очень довольны им были: всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришел он домой – отец старик помер; сынишка был по четвертому году – тоже помер, горлом болел; остался Семен с женой сам-друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне невтерпеж; пошли на новые места счастья искать. Побывал Семен с женой и на Линии, и в Херсоне, и в Донщине; нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен по-прежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать; на одной станции видит – начальник будто знакомый. Глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается. Узнали друг друга: офицер своего полка оказался.
– Ты Иванов? – говорит.
– Так точно, ваше благородие, я самый и есть.
– Ты как сюда попал?
Рассказал ему Семен: так, мол, и так.
– Куда ж теперь идешь?
– Не могу знать, ваше благородие.
– Как так, дурак, не можешь знать?
– Так точно, ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой, ваше благородие, искать надобно.
Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит:
– Вот что, брат, оставайся-ка ты покудова на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя жена?
– Так точно, ваше благородие, женат; жена в городе Курске, у купца в услужении находится.
– Ну, так пиши жене, чтобы ехала. Билет даровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка очистится; уж попрошу за тебя начальника дистанции.
– Много благодарен, ваше благородие, – ответил Семен.
Остался он на станции. Помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мел. Через две недели приехала жена, и поехал Семен на ручной тележке в свою будку. Будка новая, теплая, дров сколько хочешь; огород маленький от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семен; стал думать, как свое хозяйство заведет, корову, лошадь купит.
Дали ему весь нужный припас: флаг зеленый, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ – гайки подвинчивать, лом, лопату, метел, болтов, костылей; дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание твердил; поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила; хоть и плохо читал, по складам, а все-таки вытвердил.
Дело было летом; работа нетяжелая, снегу отгребать не надо, да и поезды на той дороге редко. Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебенку подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была: что ни задумает сделать, обо всем дорожного мастера проси, а тот начальнику дистанции доложит; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семен с женою даже скучать.
Прошло времени месяца два; стал Семен с соседями-сторожами знакомиться. Один был старик древний; все сменить его собирались: едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, посередине между будками, на обходе; Семен шапку снял, поклонился.
– Доброго, – говорит, – здоровья, сосед.
Сосед поглядел на него сбоку.
– Здравствуй, – говорит.
Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собою встретились. Поздоровалась Семенова Арина с соседкой; та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен.
– Что это, – говорит, – у тебя, молодица, муж неразговорчивый?
Помолчала баба, потом говорит:
– Да о чем ему с тобой разговаривать? У всякого свое… Иди себе с Богом.
Однако прошло еще времени с месяц, познакомились. Сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий все больше помалчивал, а Семен и про деревню свою и про поход рассказывал.
– Немало, – говорит, – я горя на своем веку принял, а веку моего не бог весть сколько. Не дал Бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу Господь даст, так уж и есть. Так-то, братец, Василий Степаныч.
А Василий Степаныч трубку об рельс выколотил, встал и говорит:
– Не талан-судьба нас с тобою век заедает, а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьем съедает.
– Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори.
– К слову пришлось, и сказал. Все-таки нету твари жесточе. Не людская бы злость да жадность – жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус откусить, да слопать.
Задумался Семен.
– Не знаю, – говорит, – брат. Может, оно так, а коли и так, так уж есть на то от Бога положение.
– А коли так, – говорит Василий, – так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом. Вот тебе мой сказ.
Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен.
– Сосед, – кричит, – за что же ругаешься?
Не обернулся сосед, пошел. Долго смотрел на него Семен, пока на выемке на повороте стало Василия не видно. Вернулся домой и говорит жене:
– Ну, Арина, и сосед же у нас: зелье, не человек.
Однако не поссорились они; встретились опять и по-прежнему разговаривать стали, и все о том же.
– Э, брат, кабы не люди… не сидели бы мы с тобою в будках этих, – говорит Василий.
– Что ж в будке… ничего, жить можно.
– Жить можно, жить можно… Эх, ты! Много жил, мало нажил, много смотрел, мало увидел. Бедному человеку, в будке там или где, какое уж житье! Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь – выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм. Ты сколько жалованья получаешь?
– Да маловато, Василий Степанович. Двенадцать рублей.
– А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу, от правления всем одно полагается: пятнадцать целковых в месяц, отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чьему брюху на сало, в чей карман остальные три рубля или же полтора полагаются? Позволь тебя спросить?.. А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не об полуторах там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце; директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне; вышел на платформу, стоит, цепь золотую распустил по животу, щеки красные, будто налитые… Напился нашей крови. Эх, кабы сила да власть!.. Да не останусь я здесь долго; уйду, куда глаза глядят.
– Куда же ты уйдешь, Степаныч? От добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница…
Всеволод Михайлович Гаршин
«Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой – десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было…»
Всеволод Михайлович Гаршин
Сигнал
Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой – десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было.
Семен Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он, и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и пятидесяти верст в жару и в мороз; случалось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии; целую неделю с турками перестрелка была: лежит наша цепь, а через лощинку – турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семенов офицер тоже в цепи был; каждый – день три раза носил ему Семен из полковых кухонь, из оврага, самовар горячий и обед. Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают; страшно Семену, плачет, а сам идет. Господа офицеры очень довольны им были: всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришел он домой – отец старик помер; сынишка был по четвертому году – тоже помер, горлом болел; остался Семен с женой сам-друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне невтерпеж; пошли на новые места счастья искать. Побывал Семен с женой и на Линии, и в Херсоне, и в Донщине; нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен по-прежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать; на одной станции видит – начальник будто знакомый. Глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается. Узнали друг друга: офицер своего полка оказался.
– Ты Иванов? – говорит.
– Так точно, ваше благородие, я самый и есть.
– Ты как сюда попал?
Рассказал ему Семен: так, мол, и так.
– Куда ж теперь идешь?
– Не могу знать, ваше благородие.
– Как так, дурак, не можешь знать?
– Так точно, ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой, ваше благородие, искать надобно.
Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит:
– Вот что, брат, оставайся-ка ты покудова на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя жена?
– Так точно, ваше благородие, женат; жена в городе Курске, у купца в услужении находится.
– Ну, так пиши жене, чтобы ехала. Билет даровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка очистится; уж попрошу за тебя начальника дистанции.
– Много благодарен, ваше благородие, – ответил Семен.
Остался он на станции. Помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мел. Через две недели приехала жена, и поехал Семен на ручной тележке в свою будку. Будка новая, теплая, дров сколько хочешь; огород маленький от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семен; стал думать, как свое хозяйство заведет, корову, лошадь купит.
Дали ему весь нужный припас: флаг зеленый, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ – гайки подвинчивать, лом, лопату, метел, болтов, костылей; дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание твердил; поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила; хоть и плохо читал, по складам, а все-таки вытвердил.
Дело было летом; работа нетяжелая, снегу отгребать не надо, да и поезды на той дороге редко. Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебенку подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была: что ни задумает сделать, обо всем дорожного мастера проси, а тот начальнику дистанции доложит; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семен с женою даже скучать.
Прошло времени месяца два; стал Семен с соседями-сторожами знакомиться. Один был старик древний; все сменить его собирались: едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, посередине между будками, на обходе; Семен шапку снял, поклонился.
– Доброго, – говорит, – здоровья, сосед.
Сосед поглядел на него сбоку.
– Здравствуй, – говорит.
Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собою встретились. Поздоровалась Семенова Арина с соседкой; та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен.
– Что это, – говорит, – у тебя, молодица, муж неразговорчивый?
Помолчала баба, потом говорит:
– Да о чем ему с тобой разговаривать? У всякого свое… Иди себе с Богом.
Однако прошло еще времени с месяц, познакомились. Сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий все больше помалчивал, а Семен и про деревню свою и про поход рассказывал.
– Немало, – говорит, – я горя на своем веку принял, а веку моего не бог весть сколько. Не дал Бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу Господь даст, так уж и есть. Так-то, братец, Василий Степаныч.
А Василий Степаныч трубку об рельс выколотил, встал и говорит:
– Не талан-судьба нас с тобою век заедает, а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьем съедает.
– Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори.
– К слову пришлось, и сказал. Все-таки нету твари жесточе. Не людская бы злость да жадность – жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус откусить, да слопать.
Задумался Семен.
– Не знаю, – говорит, – брат. Может, оно так, а коли и так, так уж есть на то от Бога положение.
– А коли так, – говорит Василий, – так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом. Вот тебе мой сказ.
Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен.
– Сосед, – кричит, – за что же ругаешься?
Не обернулся сосед, пошел. Долго смотрел на него Семен, пока на выемке на повороте стало Василия не видно. Вернулся домой и говорит жене:
– Ну, Арина, и сосед же у нас: зелье, не человек.
Однако не поссорились они; встретились опять и по-прежнему разговаривать стали, и все о том же.
– Э, брат, кабы не люди… не сидели бы мы с тобою в будках этих, – говорит Василий.
– Что ж в будке… ничего, жить можно.
– Жить можно, жить можно… Эх, ты! Много жил, мало нажил, много смотрел, мало увидел. Бедному человеку, в будке там или где, какое уж житье! Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь – выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм. Ты сколько жалованья получаешь?
– Да маловато, Василий Степанович. Двенадцать рублей.
– А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу, от правления всем одно полагается: пятнадцать целковых в месяц, отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чьему брюху на сало, в чей карман остальные три рубля или же полтора полагаются? Позволь тебя спросить?.. А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не об полуторах там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце; директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне; вышел на платформу, стоит, цепь золотую распустил по животу, щеки красные, будто налитые… Напился нашей крови. Эх, кабы сила да власть!.. Да не останусь я здесь долго; уйду, куда глаза глядят.
– Куда же ты уйдешь, Степаныч? От добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница…