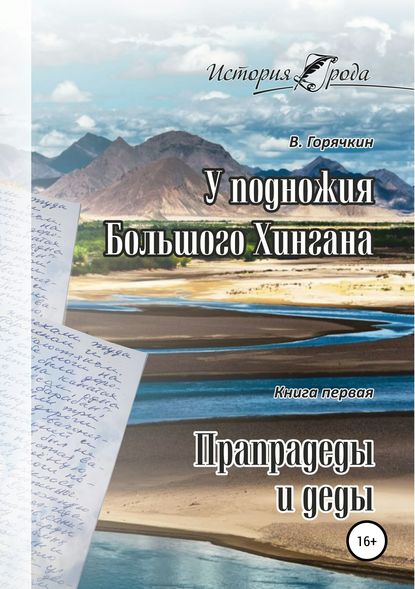По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
У подножия Большого Хингана. Прапрадеды и деды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом брат – Пармен Иванович Горячкин 1880 года рождения, 9 августа, участник войны с Австрией, войны в Порт-Артуре, боксёрского восстания, Первой мировой войны, революции. Не участвовал только в Отечественной войне 1941 года, тогда ему уже исполнился 61 год. Всю свою долгую жизнь он прожил с нами – с нашим отцом. В армии отслужил 25 лет, выслужился до вахмистра, как женился – с женой жил мало, потом они потерялись и примерно с японской войны не виделись. Узнал он её место жительства через знакомых в 1954 году, но встретится им так и не удалось – она умерла за год или два раньше, чем пришлось узнать о ней. Так и прожил он один до 1966 года, на 85 году жизни умер от склероза сердца, да ещё и сломал тазовую кость, упав с кровати. Похоронили его в Хабаровске, на городском кладбище.
Был он бравый, стройный дед – джигит в молодые времена. Участвовал в казачьих джигитовках, получал призы, умел столярничать, шить сапоги и другую обувь, строить дома, в общем от скуки на все руки, был мастером, лечил также животных и людей травами. Сильно верил в бога, читал когда-то книги Библию и по чёрной магии. Лечил людей и животных заговором, справлялся с такими болезнями как экзема, мокрец у животных, припадки сердца и многое другое. За лечение и помощь, которую он оказывал людям, никогда ничего не брал, и жил бедно. А если чем угощали, то не отказывался.
Человек был хороший, но и строгий. Не любил матершинников и пьяниц. Сам не пил и не матерился, вёл одинокую жизнь. Были возможности, находились хорошие женщины, но он не женился, надеялся все встретиться с женой, так и прошла его одинокая, но честная и справедливая жизнь. Нас заставлял перенять от него заговоры, названия трав, какими лечат, но мы не очень интересовались, а вообще надо было интересоваться.
Вообще дед Пармен был человеком, которых редко встречаешь: до предела честен, набожный, с длительной службой в армии в нём сохранилась крепкая с распорядком на каждый день дисциплина. Вставал в два-три часа утра, молился подолгу, потом пил чай и принимался за какую-нибудь работу, а когда на улице становилось светло – выходил работать. После работы немного отдыхал, писал какой-то дневник. Спать ложился поздно, к пище был неприхотлив, ел что Бог послал. Это его слова. Соблюдал все посты и знал церковные праздники, строго соблюдая их, в праздничные дни и воскресенье он не работал. Грамоте не учился, но писал ровным почерком, по старинке через «ять». Знал славянское чтение, читал много книг на славянском языке. Часто говорил о будущей жизни на земле, кое-что уже подтвердилось по его словам, в основном, всё верно.
За все войны он был награжден Георгиевскими крестами – был полным кавалером и были еще медали св. Иоанна и Суворова А.В. Кроме того – именная икона. Перед революцией всё это он схоронил у себя в саду, под черёмухой, а после боксёрского восстания, проходившего в Китае, остался там, не поехал домой, боясь, что будут преследовать как солдата Белой армии, и до 1955 года жил в Китае.
В 1955 г. выехал в СССР, надеясь встретиться со своей женой, она проживала здесь на родной земле, но не застал её живой и на 85 году жизни скончался. Хоронили его из моей квартиры, жили мы тогда в Хабаровске, по улице Краснореченской, 125, кв.12. Похоронили его на городском кладбище, где после похоронили отца и мать. Я сварил тогда им металлическую оградку с памятниками, там же и были похоронен дед Василий Толстоногов, дед двоюродных братьев Володьки, Бориса и Паши.
Сам наш родной дед Василий Иванович, после коллективизации был сослан в низовья Амура в районе Богородска, озеро Удыль. Резиденция – это золотые прийски и лесозаготовки. Жил он там с братом отца Леонидом и тёткой Талей Феликсовской, она умерла от родов Дядька Лёня жил в Хабаровске, он пошёл на пенсию в 55 лет, как машинист – проработав на железной дороге тридцать лет. Дед Василий умер в 1944 году, там же на прийсках озера Удыль. Там же окончила свою жизнь и бабушка Феодосия…
Так окончилась жизнь дедов первых переселенцев на Дальнем Востоке.
Революция в селах Приуссурья окончательно завершилась в 1922-1923 гг, стали организовываться колхозы и рыболовецкие артели. Казакам не очень хотелось идти в такие хозяйства, они всячески тянули время. Некоторые жили частным хозяйством. Началась коллективизация, стали насильно сгонять в колхозы, разделились на три группы зажиточных или кулаков, потом середняки и бедняк. Горячкиных прировняли к середнякам, стали сгонять в хозяйство лошадей, коров, тележный скарб. У кого были молотилки, веялки, жатки-сноповязалки и лобогрейки – всё это передавали в колхоз. Шла разруха, работать никто не хотел. А бедняки, их было немного в казачьих поселениях, они не справлялись с хозяйством. Тех, кто был из кулаков стали ссылать в ссылку в районы Сибири, Нижнего Амура. Началось бегство за границу, в Китай, но большинство осталось работать в колхозах. К тридцатым годам хозяйства стали немного восстанавливаться, но жить было всё равно трудно, сказались времена ежовщины, вредительство, аресты, неразбериха. За кулаками стали уходить середняки и бедные, которым не нравилась новая власть и законы.
В этот же период проходила иностранная интервенция: Дальний Восток заполонили японцы, американцы, англичане и другая свора. Посёлки грабили хунхузы, уводили лошадей, коров, тащили шмутьё и запасы продуктов. Белые, отступая, тоже обирали посёлки. Красные занимали – им тоже нужны были хлеб, одежда, обувь, но разница была в том, что красные не отнимали насильно, они или упрашивали помочь революции, или платили деньгами. Поэтому, население стало доверять больше Советской власти, и колхозы стали понемногу восстанавливаться. Отца нашего тоже забрали в ополченцы, в кадровой армии он ни в какой не служил. Когда забрали в ополченцы, то его направили в Хабаровск для поддержания Красной армии, но в этот период японцы заняли Хабаровск.
Оружия у наших не было – одна берданка или старая трёхлинейка на десять ополченцев, другие должны были доставать в боях. Отец тоже был без оружия и попал в плен к японцам. Начались допросы, расстрелы, те, кто ещё не подвергался допросам, хоронили убитых и расстрелянных, в частности на медгородке в Хабаровске расстреливали ночью, а днём пленных заставляли рыть могилы и сбрасывать трупы. Было страшно и жалко братьев по оружию с которыми днём сидели в камере, а на следующее утро их уже не досчитывались. Каждый ждал своего предсмертного часа. Японцы свирепствовали во всю азиатскую резвость, пытали, били, совали иглы под ногти пальцев, лили горячую воду в нос, применяли другие страшные пытки. Отца и многих других заставляли уносить мертвых и хоронить в оврагах. Сидели молодые и старики, женщины и дети-подростки.
Но отцу повезло: не успели японцы расправиться с пленными, пришла Красная армия. Японцы отступили из Хабаровска, а всех пленных освободили, но не надолго, начались вызовы и аресты, здесь уже занималось ГПУ. Опять допросы и допросы, некоторых освобождали, а некоторые терялись в неизвестности. Отца тоже освободили, за ним приехал его отец Василий Иванович и они возвратились в родное село Кедрово.
Вернувшись домой, мужики не знали с чего начать, понемногу работали, ловили рыбу. Но обстановка была неспокойная, ходили слухи, что будет чистка и всех сомнительных будут забирать и ссылать в концлагеря, а их семьи направлять в ссылку.
Хорошего ожидать было нечего, кое-кого уже арестовали и отправили, а куда неизвестно. Мужики волновались, вскоре забрали деда Василия и других односельчан. Вскоре дошла очередь и до нашего отца Федота, но кто-то сообщил, что придут чекисты и отец куда-то удалился, об этом не знала даже мать. Несколько раз по ночам приходили за отцом, но он исчез в неизвестном направлении. Кое-кто догадывался, куда он ушёл, но доказать было нечем. Мать по вечерам сильно переживала, плакала, не знала, что ей предстоит, куда деваться с нами, а нас было четверо: сестра Тоня, за ней Федя, потом я – Севка и Толик. Тоня тогда уже училась в школе, пошёл и Федя, но внезапно нас собрали и объявили, что ссылают нас на новые места, забрали у нас единственную лошадь и корову, переписали имущество. А так как у матери семья, то выделили худую – маленькую лошадёнку, чтобы можно было везти на ней вещи и детей, но мать отказалась от всего. Нас отправили на барже и повезли вверх по Бикину в какой-то леспромхоз, впоследствии я узнал, что это был Красный Яр.
В тайге Бикина мы побыли недолго, осенью нас увезли до железной дороги и со станции Бикин отправили в Амурскую область. Доехали до станции Ушумун, затем до реки Зеи нас везли на лошадях, а потом погрузили в баржу и катер потащил нас вверх по Зее. Мать по дороге где-то отстала от нас, несколько дней нас везли без неё. Мы стали волноваться и плакать, нас успокаивали и сказали, что так как сейчас не хватило на всех мест, то мать приедет позже. Через несколько дней нас привезли в село Сиваки, тут нас догнала мать, радости не было конца. Мать тоже наплакалась, думала, что больше не увидит нас, так бывало со многими семьями. С Сиваков нас «кукушка» – маленький диковинный паровозик увёз в село Красное, здесь основался леспромхоз. Строили бараки длинные, здоровые, внутри нары из накатника, сделанные по всему бараку буквой «П».
В бараках размещали по сто семей, выделив площадь исходя из количества членов в семье. Нары застилали соломой, внутри топились бочки-печки, дрова были рядом, потому, что окружала кругом тайга. Сопки, лес густой, весь хвойный: ель, пихта, сосна и разное чернолесье.
Мы поселились в углу барака. Народу было много, в основном – женщины и дети, мужиков было раз, два и нет. Была большая семья Косяковых, их было 12 человек и все парни. Было и наших односельчан несколько семей из других деревень, народ отовсюду.
С нами рядом поселилась одинокая женщина, немного сумасшедшая, ничего не говорила, кроме того как «Инна-ина-ина». По внешнему виду она была из культурной семьи, неплохо одета, рассказывали, что её отец имел какой-то чин, чуть ли не генерал, так его с женой расстреляли у неё на глазах, поэтому она получила тихое помешательство и отнялся язык. Мы, ребятишки, все её боялись. Которые постарше – дразнили её, а она за ними гонялась и поймав, могла укусить или ударить чем попало.
Женщин распределили на работы, кого на повалку и трелевку леса, а других на постройку бараков и утепление. Кто-то занимался заготовкой дров.
Зима была холодной и снежной, продуктов не было, завозили плохо, да и нечего было завозить. Питались мерзлым картофелем, также нам выдавали по 100 грамм ржаного хлеба пополам с землей на одного человека.
Люди были до страха худые-бледные со всего лагеря почти каждый день кто-нибудь умирал. Умирали люди, дохли лошади прямо запряженные в санях от голода, да еще настигла эпидемия брюшного тифа, косило сподряд. В нашей семье заболел Толька, какой он был страшный, казалось, что дыхание колебало его голые ребра, желтый, волос вылез из головы. На больных давали паек побольше чем здоровым. Мы требовали у матери кушать и все время смотрели на корзинку, подвешанную к потолку барака. Мать хранила для Тольки и если корзинку снимали чтобы его покормить, мы набрасывались, но получали затрещины и со слезами отваливали от корзины.
Ребятишки радовались когда от голода сдохла лошадь, все кричали в один голос – «Ура, ура!!!! Мы получим по 100 грамм конины!!». И точно, коня ободрали, обрезали мясо, детям давали по сто грамм мякоти, а взрослым – что придется: голые кости, кишки и т.д. – но это уже был праздник.
Работающим перевыполняющим норму тоже добавляли пайки, а детям которым было свыше 5 лет обязаны были собирать с поваленного леса шишки с елки, пихты, сосны и кто собирал свыше 5 кг за день, тому тоже увеличивали паек и давали даже сахар, когда он имелся. У нас собирали шишки Тоня и Федя, я пытался несколько раз ходить с ними, но снег был глубокий и мороз не давали долго ходить, да и притом мне шел всего третий год. Тоня и Федя притаскивали меня из леса и ругали, что больше не пойдешь с нами. Словом, я был для них помехой, только падал да плакал, жалуясь на большой снег. Одежды не было, рваные валенки одни на всех и драные телогрейки. Мать моталась, уставала. По вечерам бабы собирались, разговаривали полушепотом и плакали. Жизнь была мучительно тяжелая, от тифа умирали ежедневно, могилы копали в мерзлой земле сразу на несколько мертвецов, хоронили без гробов, кое-кто из женщин сколачивал ящик, а обычно давали в рванье и хоронили. Было жутко и после каждых похорон наступало уныние, горечь, слезы, за что только карался народ, особенно женщины и дети. В чем заключалась их вина, трудно было представить.
Люди ходили унылые голодные, друг с другом не разговаривали, боясь друг друга. Люд был разный, помню, один или два барака были заселены самарами. Откуда их сюда привезли – я в то время не понимал. Говорили они как-то интересно – окали и любили пить чай, хотя он был из шульты[3 - Шульта – гнилая сердцевина берёзы, которую в голод варят вместо чая.].
Было много украинцев и белорусов и других национальностей. Их всех постигла жестокая голодная и беспощадная и безответственная жизнь со стороны тех, кто ей руководил и управлял. Кто наносил этому вред, вряд ли знают по сей день….
Многие делали побеги, которым удавалось, сумели дожить до сих дней. А кто попадался, его возвращали и тут уже жизнь не могла больше существовать, тяжелые непосильные для человека условия, голод, мор и люди прощались с жизнью. Сколько их погибло в те времена по всей земле, родной России. Кто-то, конечно, знал, но с истечением большого времени, для них все забыто и уже не интересует прошедшее. Шла революция, ломались времена, ломались характеры людей, их бытность, ведь предел насилия обязательно сломит его и погубит навсегда, если судьба бессильного зависит от какой-то неимоверной предельной силы.
Мать вечерами после работы не спала, о чем-то все думала, а иногда тихонечко, чтобы не разбудить нас плакала, пока её не смаривал сон. После много лет спустя она говорила – «Что плакала и думала о том как спасти жизнь, спасти себя и нас от неминуемой голодной и холодной жестокой, ни в чем неповинной смерти. И решение было одно – сделать побег – но как?» И вот, однажды, повстречала она знакомого солдата из соседней деревни, он тоже охранял нас и часто дежурил на воротах, через которые уходили поезда-лесовозы из территории лагеря. Мать почему-то доверилась ему, все объяснила о чем думает и какие у неё намерения. Солдат очень посочувствовал её и поддержал её опасную затею, но дал согласие, что поможет ей в побеге. Договорились так, что когда он будет дежурить на воротах и будет на часах примерно перед утром, когда все крепко спят, собрать нас и сесть на один из вагончиков груженых лесом и спрятаться в бревнах, а когда будет выезжать, сообщит, что все в порядке, он пропустит её не заметив. Но строго наказал, чтобы никто не знал и не говорить нам ребятишкам.
Так оно и получилось, красноармеец сдержал свое слово. Мать собрала нас часа в 3-4 утра. Мы тихо вышли из барака, добрались до «кукушки», засели в бревнах и на сером свету проехали колючую проволоку. Время было осеннее, было уже холодно, мы мерзли, жались друг к другу, но молчали, потому, что мать строго наказала, чтобы мы не шумели. Мы поинтересовались у матери – куда мы едем? Но она прикрикнула на нас и успокоила, что едем домой к отцу. Мы успокоились, натянули на себя рваные куртки-телогрейки и молча, дрожа от холода, ехали и ехали…
Не помню, сколько мы ехали, но вскоре добрались до станции «Свободной» и там ждали поезд. Поезда ходили плохо и редко, народу ехала уйма, даже на крышах вагонов и тормозах. Помню я в первый раз увидел паровоз, как он пыхтя подошел к станции и издал такой сильный свисток, что я вырвался у матери из руки и бросился бежать в обратную сторону к станции. Тоня с Федей едва догнали меня и потащили обратно. Я весь дрожал от страха и дикими глазами глядел на состав вагонов, но уже было тихо.
В тот день мы забрались в одну из теплушек в угол. Народу была тьма, в вагоне было темно и сыро. Посреди стояла печка-буржуйка, но она не топилась, хотя и было холодно. Народ с узлами и ребятишками, рев, гомон, ничего не разберешь, кто куда едет, никто из нас не спрашивал, все боялись друг друга, кто с билетами, кто зайцем. Мы ехали, по-видимому, тоже без билетов, т.к. купить их было не на что. Наконец поезд тронулся и мы поехали на восток, в сторону Вяземского. По дороге на остановках никто не выходил, бегали только за кипятком или сырой водой, и то, если она была на станции.
Ехали мы совершенно голодные, то, что мать сберегла в бараке, съели пока ехали из тайги и мотались по станции. Голод донимал, хотелось спать, но сон не шел, думалось о том, как поесть. Мы помладше с Толькой все просили поесть. Толька стал поправляться от тифа и страшно хотел есть. Вообще как он выжил – ребенок, которому не было еще и одного года – это какое-то чудо, в которое даже поверить невозможно. Полный голод, никакого лечения, болезнь пущена на произвол, будет жить или нет неизвестно. И он выжил, худой, голые ребра и огромный живот, кожа свисала на лице и туловище, словом живой скелет для научной работы.
Мать боялась за него, не дай бог, что случится с ним в дороге, нас сразу же обнаружат и спрячут за побег туда «Где Макар пас телят». Но все пока шло благополучно, только на одной станции не помню какой, тоня побежала набрать кипятка и внезапно повстречала какого-то дядьку с нашей деревни. Тоня его узнала, но он её остановил первый и спросил, откуда мы здесь и как сюда попали. Тоня не ответила, но сказала, что с матерью находимся в вагоне, он схватил Тоню за руку и они помчались к вагону. Он стал кричать «Зиновья, Зиновья, где ты?». Но мать не отвечала, боясь, что о ней сообщили в ЧК и теперь ищут. Она прижала нас к себе, затихла и не подавала звука. Но сомнение брало, почему её называют по имени и этот момент Тоня стала кричать «Мама выходи, тебя ждет дядя!» и назвала его по имени. Мать решилась выйти и когда они встретились и мать все объяснила, т.к. знала этого человека по своей деревне. Он был ошеломлен побегом матери в такую осень холодную мокрую и совсем голодом, с маленькими детьми. Тут появилась его дочка, он быстро послал её домой, чего-нибудь принести поесть, поезд стоял на станции подолгу, потому времени хватило сбегать, да и дом их был недалеко от вокзала. Вскоре пришла дочь с большой круглой буханкой хлеба и еще что-то, соленые огурцы или капуста.
Вскоре тронулся поезд, мать поблагодарила спасителя и его доченьку ионии что-то еще поговорили, пока стоял поезд, потом попрощались. Мать и тоня сели в теплушку, на прощанье помахали руками и поезд тронулся.
Как немного успокоились все мать и мы, первым долгом мать рассчитала на сколько дней делить булку и стала нас кормить, конечно, не досыта. От Ушумуна до Вяземска мы ехали не то семь, не то восемь суток. Булка хлеба закончилась и опять наступил голод, но в Вяземске мать разыскала какую-то тетку, не то родственницу, не то посёлочницу, но вполне надежную женщину. При встрече с нами она растерялась, но потом после объяснений матери, поселила нас в баню. Баня была сделана по-белому и недавно была протоплена. Пахло пареными дубовыми вениками и банным теплом. Нам даже показалось хорошо после сырой и холодной погоды на улице, время было уже начало морозов.
Немного погодя нам принесли поесть горячего картофеля на отвар и хлеба. Мы поели, тетка принесла нам старый тулуп и мы улеглись спать, спалось особенно хорошо, после сытого ужина и в тепле. На другой день подтопили баню, перемылись. Нам хотелось на улицу, но мать строго наказала, чтобы мы никуда не выходили и когда уходила поговорить с тёткой, нас залаживала на деревянную заложку с улицы.
Как-то днем мать с теткой забежали расстроенные и быстро открыв западню в бане, стали спускать нас в подполье. По-видимому, в городе были обыски и нас на всякий случай, спрятали в подполье. Там было темно и сыро, видимо зимой сюда завозили лед и летом под баней был ледник для хранения мяса, молока, рыбы, но ямой уже не пользовались несколько лет, поэтому она была полусухая. Нам бросили соломы и постель, старые куртки и этот же тулуп. Все последующие дни мы жили в подполье-леднике.
Мать все время беспокоилась и часто в бане, в потемках они шепотом о чем-то разговаривали с теткой.
Сколько мы прожили у тётки, не помнится, но раз ночью нас срочно собрали, одели во что было можно, нас с Толькой посадили в санки, сделанные по-деревенски с гнутыми полозьями на копылах[4 - В пазы саней, вырезанные в каждом полозе, вставляли копылы – вертикально поставленные массивные бруски высотой от 10 до 30 см. На полозе устанавливали от 4 до 12 копылов.], как настоящие конские, только маленькие, видать для домашних перевозок и катанья и куда-то повезли в темную ночь.
Мы уже привыкли к этим тайным внезапностям и всегда молчали, чего-то боялись, да и мать каждый раз нам перед этим наказывала не кашлять, не разговаривать, тем более не плакать.
Долго мы ехали по селу, а потом нас вывезли на простор, сразу подул холодный морозный ветер, это была река Уссури.
Оказывается за все время, пока мы находились у тетки, мать разыскала знакомого станичника, с ним она и договорилась на счет перехода. У него была взрослая дочь, видать отчаянная, бесстрашная казачка. Это она и приехала за нами на санках и согласилась перевезти за Уссурий, вернее за кордон.
Ехали тихо, без шума, ночь была темной и сыпала небольшая порошка. Уссурий недавно стал, кое-где потрескивал лед, да попадали торосы[5 - Торосы – нагромождение обломков льда, до 10-12 метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова.]. Санки задевались за стоящие льдины и раздавался негромкий скрип.
Вскоре, невдалеке показалась коса[6 - Коса – низкая намывная полоса суши на берегу водного объекта, соединяющаяся одним концом с берегом.], она выпирала бугром и казалась впотьмах маленькой горой. Здесь девка ускорила шаг, стараясь скорее попасть за косу, за санками бежали Тоня, Федя и мать. Слышно было как они тяжело дышали и по-видимому, сильно переживали. Мы с Толькой молчали и ничего не понимали, куда мы едем и зачем. Если бы были взрослые, в этот момент нам было бы страшно, мы бы понимали переход этой по сути дела ответственной полосы, которая разделяла два государства, неизвестно на какое время или вообще насовсем.
Только мы успели скрыться за косу, где-то издалека, ударили выстрелы, пули ударялись то в торосы, то где-то на косе. Несколько пуль угодили недалеко от санок. Все бросились в сторону, но девушка негромко крикнула «не бойтесь – теперь уже все, проспали касатики». Сказала она и поехали дальше, версты с две мы проехали вдоль берега, который прикрывала коса, вдруг, как из-под земли покаталась китайская фанза, залаяли собаки. Кто-то вышел, скрипя дверью, у него в зубах искрилась трубка, как волчий глаз среди темной ночи.
Китаец спросил спокойным тоном по-русски «Кто приехала?». Наша проводница ответила свое имя. Китаец узнал её по голосу, по-видимому не раз бывавшую девушку и поахав, назвал её по имени.
После этого зашли в фанзу. Было темно, только через окошко заклеенное промасленной бумагой проникал свет.
Перевозчица переговорила с китайцем, по-видимому, мы у неё были не первыми беженцами и китаец её отлично знал и имел с ней дело.
Потом она показала на мать и нас. Китаец покивал головой и сказал: «Хорошо, моя всё делай». И он приблизился к матери, когда впотьмах приблизился к ней, вдруг крикнул «Зиновья! Федотка! Зиновья! – тебе как сюда попади?». Оказывается, он знал мать и отца и часто бывал в Кедровой. Когда ходил за чем-нибудь и граница была еще открытой или, по крайней мере, не особо охранялась заставами. Тогда свободно ходили русские к ним, они к нам. Менялись поварами, ходили китайские коробейники. Мужики ходили попить ханьжи[7 - Ханьжа (кит. – байцзю) – традиционный китайский алкогольный напиток, наиболее близкий русской водке.] или спирту, а им носили мясо, крупы.
Немного перекусив, нас уложили спать на канны, а мать с девкой о чем-то посоветовались и вскоре уже перед утром она ушла обратно.
Чем благодарила мать за этот переход, мы не знали, но, наверное, недаром. Рисковать таким делом решится не каждый. Как могла это сделать молодая женщина?