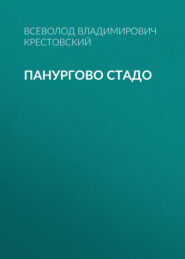По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очерки кавалерийской жизни
Год написания книги
1892
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я соскочил с коня перед низенькой дверью хаты, к которой привел меня квартирьер. Он прошел в темные сени, указывая мне дорогу, и раскрыл дверь, из которой повалил чадный пар клубами.
– Бог помочь, хозяева! – проговорил я, войдя в хату.
– И на веки веков. Амен! – ответил мне из угла сиплый, как будто сдавленный в хилой груди мужской голос.
В хате было жарко натоплено, так что под потолком ходил, как в бане, густой и прелый пар, скопившийся от действия теплоты на отсырелые стены. Припахивало тем угарцем, который остается от рано закрытой печи после выпечки хлебов.
Я осмотрелся в этом паре, но нигде не нашел и признака моей походной кровати.
– А где же вещи мои? – с удивлением обратился я к квартирьеру.
– Не могу знать.
– Да разве Бочаров с фурманкой не приезжал сюда?
– Никто не приезжал. Мы цельный день здесь, а никого не видали; да кабы приехал, так ему, окромя как сюда, и деваться некуда.
– Милый сюрприз – нечего сказать!.. Только его и недоставало!
Я осмотрелся, выгадывая себе, как бы получше устроиться в данном положении. У двух стен находились плотно приколоченные и вбитые в земляной пол узенькие лавки. Улечься ни на одной из них не было почти никакой возможности: и узко, и мокро – потому что со стен течет. Я приказал принести себе куль соломы и бросить его на пол в наиболее чистом переднем углу. Но, черт возьми, как есть хочется!..
– Хозяин! Нет ли у вас чего-нибудь закусить?
– А ничого нема, паночку!
– Нет ли похлебки какой, что ли, какого-нибудь кулешику, или гороху? Разогреть бы, коли холодный?
– Та не, кажу, паночку! Якой-с там кулешик, када и у доме крупы нема!
– Ну, может, яйца есть или сало?
Хозяин усмехнулся с какой-то едкой горечью.
– Э! – безнадежно махнул он рукой. – Ани сала, а-ни яец – вичого! Адна беднота та цеснота, што и-и Боже мой!..
– Да сами вы едите что-нибудь?
– А так. Ядмо, алеясь и яда таковська! У воду покидаемо скариночки хлеба та цибульку, та ось и уся яда!.. А сало, – прибавил он, помолчав немного, – як кабаны поколим, то и сала тоды сдабудзем!
Плохое утешение! Впрочем, Свиридов побежал по деревне да в жидовскую корчму – промыслить для меня чего-нибудь съедомо-го. Я скинул с себя амуницию и закурил папиросу, которая, как известно, перебивает голод, – «а тем часом, думаю себе, авось-либо и Бочаров с фурманкой подъедет». Начинаю приглядываться к обстановке моего ночлежного обиталища. Длинная лучина воткнута в стену и неровным светом озаряет хату. Около лучины сидит с прялкой старуха и молча, сосредоточенно, с каким-то пришибленным выражением в лице, прядет кудельную пряжу. Монотонно-мерный звук прялки и веретена носит в себе что-то грустное и усыпляющее. Хозяин сидит понуро, и по лицу его не разберешь: думает ли он о чем или уж до такой степени пришиблен каким-то внутренним гнетом, что и думать перестал давным-давно о чем бы то ни было. На печи храпит хозяйский сын, умаявшийся за целый день на работе. Двое босых белоголовых ребятенок сидят около прядущей "бабульки* и с выражением тупого, полуиспуганного недоумения поглядывают то на меня, то на бабульку. Третий ребятенок – сопливый, замурзанный двухлеток, поджав под себя ноги, сидит на припечку в теплой золе и сосет корку хлеба. И все это – хоть бы слово проронило! Упорное, тупое, сосредоточенное молчание прерывается по временам только тихим квохтаньем кур да хрюком поросят, ютящихся под печкой. Но зато тишину хаты наполняют непрерывный звук прялки, цвириканье запечного свер чка да чье-то трудное, тяжелое дыхание за перегородкой.
Вдруг из-за той же перегородки раздался крик и плач младенца.
– Марьянка! Ходзь поколышь яиу! – тихо сказала бабулька.
Белоголовая девочка, шмыгнув носом, сползла с лавки и ушла за перегородку. Оттуда послышался тихий скрип качаемой зыбки как бы в дополнение к стуку бабулькиной прялки. Но плач и стон младенца не унимался. В этом слабом стоне слышалось что-то хилое, больное.
Прошло более получаса, а ребенок все пищит, и белоголовая Марьянка, не переставая, колышет зыбку.
Растворилась дверь, напустив из сеней клубы холодного воздуха, – ив горнице показался вахмистр, при сабле, но с какой-то дымящейся кружкой в руках. Поставив на стол эту кружку, он формальным образом отрапортовал, что в эскадроне все обстоит благополучно.
– А фурманки-то все нет, ваше благородие, – сказал он, переждав минуту после рапорта.
Я пожал плечами.
– Не прикажете ли, ваше благородие, чайку? – продолжал Андрей Васильич. – Я кружечку захватил для вас, ежели не побрезгуете.
– А, спасибо, голубчик! – с удовольствием согласился я. – Где ж это ты его добыл?
– А с собой было малость захватимши. Мы этта вскипятили кипиток да в ём-то чай и заварили-с. Кушайте на здоровье, ваше благородие, пожалуйте-с!
С голодухи я просто с наслаждением глотал горячий вахмистерский чай и в душе был искренно благодарен старому Склярову за его внимание. И в самом деле, у наших солдатиков это замечательная характерная черта: в какую бы то ни было критическую минуту – вот хоть бы подобную настоящей, – они никогда не забудут своего офицера и поделятся с ним последним куском; всегда сами, первые, радушно и бескорыстно предложат что бог послал; и откажись офицер – солдат в душе, наверное, обидится и мысленно обзовет его «гордым».
Пришел Свиридов и принес кусок черствого козьего сыра да солдатского хлеба.
– Больше ничего нету, ваше благородие! – доложил он. – Всю деревню избегал – нигде ничего! Бедность этта у них, что ли, уж такая: ни молока, ни сала – как есть ничего! У жидов шабаш взошел – тоже, значит, не отпускают. И то уже насилу выдрал сыру вот!.. Булочка есть у меня, ваше благородие! – добавил он, вынимая из кармана шинели круглый белый хлеб. – Не прикажете ли-с?
– Нет, брат, спасибо! С меня пока и этого будет довольно! – отказался я, не желая лишить солдата лакомого куска.
– А ты где ж ее добыл? – спросил его вахмистр.
– А давеча-с при переправе купил у торговки… думал этта на закуску себе.
– Ишь ты! Запасливый! – ласково кивнул на него Андрей Васильич. – А что это у вас тут такое пищит-то все? – обратился он к бабульке.
– Дзецко, – коротко ответила старуха.
– Дзяучинка маленька, – добавил в пояснение хозяин.
– Ну, этто их благородию неспокойно будет, – заботливо заметил вахмистр. – Вы б ее уняли как…
– А як яну уйматы! – пожал старик плечами. – И то вже хлопчики наши – ось, – калыхаюць-калыхаюць сабе калябку, та ни чого не зробяць!
– Э!.. С чего ж этто она так-то?
– А хвора, дабрадзейку!.. И матка хвора, и дзяучинка хвора… Так бедуймо, што и-и!.. ховай Боже!
– А матка-то где ж?
– А ось-там коло калыбки ляжиць у безпамяцю…
– Дочка тебе, что ли?
– Не, сынова женка.
– Чем же она хворает-то?
– А хто е знае!.. Так сабе, хвороба якось-то вже дзевьяты дзенъ пай шоу…