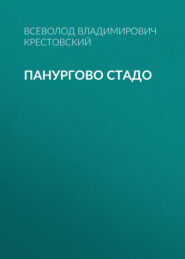По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очерки кавалерийской жизни
Год написания книги
1892
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Виновати, ваше благородие! Тут такое случилось, что и не приведи Бог!
– Что еще?
– Да как же-с! Изволили вы этта приказать, чтобы ехать нам наперед; а он, подлец, возьми да и свороти в сторону…
– Кто он?
– Да фурман-с. Говорит, тут, мол, ближе и скорее доедем. Я с дуру-то и послушайся – думал, что путное говорит, а он этта, проехамши верст пяток, остановился маленько у корчмы у одной – покормить, говорит, коней малость надо; не более как с полчаса, говорит, забавимся. Я этта остался при вещах, а он, сволочь, в корчму пошел. Гляжу – ан выходит оттелева распьяно-пьянешенек… Вот сами изволите посмотреть: и до сей поры лыка не вяжет, почитай что в бесчувствии лежит в бричке-с. Я как уложил его, так сам и поехал, но только дорога мне по эфтим местам совсем, значит, новая и незнакомая… Кабы просто нашим обнаковенным трахтом на Индуру бы ехать, так ту-то дорогу я знаю доподлинно, а по эфтой никогды не доводилось… а тут стемнело да вьюга этта – я и сбился с пути. Так вот и плутал не весть где, пока добрые люди – спасибо – не вывели на настоящую дорогу! Ну, да уж и накостылял же я ему за это! Надо, ваше благородие, беспременпо взыскать! потому это непорядок!
Подозрения на Бочарова я не имел: он известен всему эскадрону как солдат честный, правдивый и совсем не пьющий, да и видно было, что он трезв совершенно; а фурман действительно лыка не вязал – и преспокойно храпел себе в бричке, уткнувши нос в небо.
Я приказал поскорее раскинуть себе походную постель, только не в хате, а в сенях, что и было исполнено при свете фонаря, и улегся на холодную подушку, покрывшись меховой шубой. Этак, по крайней мере, было и лучше, и здоровее, и удобнее.
Под утро – чую сквозь сон – кто-то ходит и возится рядом со мной, и вот над ухом слышится уже сдержанный, осторожный голос Бочарова:
– Ваше благородие… а, ваше благородие…
Продирать глаза – смерть, не хочется! И притворяешься, будто не слышишь.
– Ваше благородие!., а, ваше благородие! – слышится снова и минутку спустя. – Извольте вставать – пора уже!..
– Ах ты варвар! И выспаться не дашь! – бормочешь ему, зевая и потягиваясь.
– Ваше благородие!.. Самовар готов-с!
Высовываешь нос из-под шубы – ив сероватом свете занявшегося утра видишь, как на пороге кипит уже походный самовар и чайник на нем белеет, а на скамье стоит раскрытый погребец, и стакан уже приготовлен, и фаршированный поросенок со всею свойственною ему угнетенною невинностью выставляет из сахарной бумаги свое жареное рыло, а Бочаров стоит уже над душою с полотенцем и ковшиком воды.
– Мыться извольте, ваше благородие, – сон как рукой снимет.
И точно: плеснул несколько раз на лицо студеной водой – и откуда свежесть да бодрость взялася! Не успел еще утереться, а проворный вестовой доливает уже чайник и вслед за тем преподносит стакан ароматного чая, который на холодку пьется почему-то с великим аппетитом.
А вот и Андрей Васильич в дверях появляется:
– Ваше благородие, эскадрон в сборе, и квитанция получена.
Давши хозяевам, в благодарность за ночлег, на лекарство, или, вернее, на похороны для больной, я оставил мою темную, грустную, неприглядную хату и вышел ко фронту.
Через пять минут начался уже второй переход… Те же кони, тот же Шарик, те же поля с крестами и перелесками и те же «не белы снеги» – в поле и в устах разливистых подголосков.
4. Приход в Свислочь
Денъ был серый и, так сказать, беспросветный, когда эскадрон наш после второго ночлега делал свой третий и последний переход. В поле мела завируха и стоял такой крутень, что хлопья мокрого снега, вертясь и кружась перед глазами, словно бы несметные рои каких-то одухотворенных существ, застилали непроницаемой завесой всю окрестность. Этот снег залеплял глаза и чуть лишь находил удобное местечко, вроде складки платья, там и залегал целой грудкой. Набивался он и в гривы лошадям, и в баки людям и на донца шапок наседал, как будто слой пушистой ваты. Пренеприятная погода! – особенно эта снежная мокреть, тающая потеками по лицу и заставляющая ежиться из опасения, как бы она не протекла за шею, доводила просто до глупой досады. По лицам было видно, что в голове у людей засела гвоздем одна лишь мысль, как бы поскорей уж добраться до стоянки! Завируха эта началась с раннего утра и преследовала нас в течение целого перехода. День был воскресный, но по такой погоде не попалось нам навстречу ни одних саней с круглолицей, курносой бабой в пестром платке на задку «полукошика» и с мужиком на передку, которые в воскресенье обыкновенно попадаются но дорогам, возвращаясь из местечек, куда они приезжают «до косциолу або до церквы». Жизнь полей заявляла себя одним лишь свистом снежного крутеня; но ни одного птаха, ни одного галчонка, ни единой даже старой карги-вороны не виднелось по краям дороги: все это позапряталось, куда Бог привел, и, нахохлясь да уткнувши нос под крыло, пережидало, когда-то наконец утихомирится эта скучная непогодь.
Не доходя восемнадцати верст до Свислочи, от эскадрона постепенно стали отделяться его взводы. Вот и перекресток дорог, обозначавшийся давно знакомым крестом с резным изображением «пана Иезуса», на котором трепался под ветром цветной лоскут пелены, подвешенный в виде юбки чьею-то благочестивой рукой; на крышечке, осеняющей фигуру Христа, и на поперечных брусьях тяжело нахлобучило целые шапки пушистого снега. У этого перекрестка отделился первый взвод и свернул по дороге к своим квартирам, назначенным ему в одной из деревень на первых два зимних месяца. Пройдя несколько верст, отделился третий и четвертый, потом второй, так что со мной остался только эскадронный штаб, учебная эскадронная команда да еще команда молодых, дурноезжих и худоконных лошадей, которые требовали особенной выправки и ухода в течение зимних месяцев под непосредственным надзором эскадронного командира.
– Ваше благородие! – подъехал ко мне вахмистр. – Позвольте людям песни поиграть! Очинно желают!
– Песни! Да где же песенники-то? Ведь все почти разбрелись со взводами?
– Это ничего-с, кое-кто наберется, да, впрочем, теперича кто и не песельник, так и тот будет орать – больно зябко уж!
– Пускай их, коли охота!
– Вали, ребята! – одобрительно махнул им Скляров, как видно, довольный полученным разрешением.
Ребята подбодрились, открякнулись и «повалили», хотя без бубнов, которые отсырели от мокрети и, значит, не могли уже действовать; зато яркая махалка с мокрыми лентами ходила с большей против обыкновенного энергией, и медные тарелки отбивали такт, словно бы звоном своим желали пересилить свист завирухи.
Аи, да раскудрявь, кудрявь, кудрявь-да
Ррраскудрявая моя! –
отчеканивали громкие и бойкие голоса развеселую песню про вешнюю зеленую березыньку.
Нечего сказать, и песня как раз по сезону!..
А крутень завивается, да лепит хлопьями в глаза, и знать себе ничего не хочет!
Но вот порой на минутку словно бы и притихнет ветерок, и хотя снежина все-таки валит себе хлопьями, но сквозь этот снежный вуаль можно как будто и распознать длинную-предлинную полосу, которая слева чернеется впереди на дальнем горизонте: это выступают окраины громадной пущи, в глубинах которой бродят, как последние могикане вымирающей породы, могучие зубры Беловежи.
Вот и деревня Рожки с заброшенной панской усадьбой, отданной на аренду еврею со всем ее садом, бельведером, беседками и прочими затеями панского досужества, дуплистые корявые ветлы какими-то уродливыми бородавками красиво торчат по берегу болотистого и запруженного ручья. Этот ручей, изобилующий карасями и жабами, сплошь зарос камышом и гибкими кустами тонкого лозняка, который красноватыми прутьями своими резко выделяется на снежном фоне всей картины вместе с черными, помпонов ид ным и шишками камыша, почему-то напоминающими мне своим видом артиллерийские банники. Из-за садовой ограды глядят высокие, древние деревья с черными гнездами, грустно и задумчиво перевесившись на дорогу своими ветвями, которые никнут чуть не до земли, отягченные насевшими на них комьями снега.
Команда наша вступает на низенький, дырявый мостишко.
– Под ноги! – кричит по обычаю вахмистр, остерегая людей, чтобы те внимательней следили, как бы часом которая лошадь не застряла копытом да не покалечилась бы в мостовой продолбине.
Своротили влево, а там в трех верстах уж и Свислочь видна со своим каменным обелиском, костельною башней и каменными воротами, поставленными при въезде, вроде какой-то триумфальной арки. Вот знакомая сосновая рощица, где водятся белки; вот озерко небольшое, где мы бивали уток; вот кладбищенская роща, среди которой белеются стены каплицы, а вот наконец и она, неизменная жидовская корчма, которая, убоясь изобильной конкуренции в самом местечке, хитровато выскочила за околицу и, подмигивая своими подслеповатыми, окривелыми оконцами, как бы говорит каждому мимо идущему: «Зжвините!.. хоць на еден ки лишек!»
Вдоль по улице метелка метет, –
За тетелвцей уланина идет! –
свищет и щелкает, и гаркает, и ухает моя команда, – и с этой песней, вся запушенная и занесенная снегом, вся белоусая, белобровая, белобородая, вступает в улицу местечка, цо которой в эту минуту действительно метет разлихая метелица.
Еврейское сердце не камень: заслышав знакомые звуки, все эти Лейбки и Мошки с Васьками и Рашками и со всем племенем и потомством высыпают в чем ни попало за пороги своих домишек и, потряхивая пейсами да скаля улыбками зубы, кланяются, кивают и ныряют вперед головами и бородами и с розовой мыслью о предстоящих гандлах и гешефтах встречают нас своими приветствиями:
– А! гхэто ви-и… Сштари зжнакоми! Пэрвши сшквадроон!.. Зждрастуйте вам! зждраствуйте вам!.. Мы такии радыи вам, сшто ви изнов попереходзили до нас!.. 3 зжимним квартэром!.. Дай вам Бозже!..
На площади команда останавливается, и квартирьеры разводят ее по конюшням.
Самая «вальготная» стоянка для солдата – это, бесспорно, стоянка «во взводе», т. е. в той глухой деревушке, брошенной в какую-нибудь часто непроездную и невылазную трущобу, где назначено стоять его взводу. Иногда взвод разбивается и на две смежные, ближайшие деревушки. Начальства над ним тут всего лишь один взводный вахмистр, и службой его несравненно менее донимают. Иногда бывает и так, что один эскадрон раскинется по широким квартирам верст на двадцать расстояния. Придет солдат на зимнюю стоянку и станет, конечно, к знакомому хозяину, где стоял он и прошлую, и позапрошлую зиму. В этой курной хате он свой человек, особенно если полюбился хозяйке или хозяйской дочке – его так уже и считают своим человеком. Накормят его чем Бог послал, но уж, конечно, тем, что и сами едят, и не их вина, если едят они испокон веку плохо, кроме картошки да гороха ничего не смакуточи; разве что когда к Рождеству да к Святой «кабаны поколят» – то тогда и борщ со свининой, и кашу с салом на стол подадут, а в обыкновенное время все больше картофельного «затиркою» да кулешиком пробавляются. Литовско-русский крестьянин просто поражает глаз непривычного человека своим хилым, болезненно-бледным, робко-забитым и как бы отощалым видом. Виною этому кроме нравственного гнета недавних времен польской панщины служит, конечно, его скудная, малопитательная пища при изнуряющем мускульном труде над малоблагодарной почвой. Но этот забитый хлоп очень добродушен и радушно делится с солдатом своей картошкой. Женка или дочка его непременно моет белье и к празднику – гляди – сошьет ему сорочку, или по-здешнему «кошулю»; а постоялец чем может помогает по хозяйству: дров нарубит, лучин для светца надерет, воды наносит – и живет таким образом хлоп с солдатом весьма дружелюбно, уделяя ему и место за столом, и угол на печке, и часто "прощает*, т. е. дарит солдату его паек казенный.
Солдат сегодня к вечеру пришел на квартиру, а завтра утром первым делом устроил конюшню, на которой всегда стараются ставить хоть по паре лошадей, потому что, по замечанию кавалеристов, конь скучает и плохо ест, если один стоит. Затем раза два в неделю взводный вахмистр сделает езду своему взводу, раза два соберет «грамотную команду» и «в книжку почитать» заставит, а остальное время у солдата свободно, за исключением утренней и вечерней уборки коня, задачи корма да водопоя: он себе и тачает сапоги, либо портняжит, либо столярит и через то кой-какую деньгу зарабатывает.
Но нет хуже для него стоянки, как у жидов на квартире, что неизбежно случается в местечках.
Еврейская семья может довольствоваться неимоверно малой долей самой неприхотливой пищи: фунта два хлеба, селедка да несколько цибулек – вот и все дневное пропитание. Только к шабашу приготовят они себе пищу получше: щуку маринованную или фаршированную с перцем, кутель запекут; но это пища «ко-ширная», т. е. чистая, и солдату ее не дадут отведать. Вообще, солдату еврей не дозволит сесть за тот стол, за которым сам он сидит с чадами и домочадцами: солдат ест «трефное», и все, что ни исходит от него, есть «треф», поэтому прикосновение к кошир-ному столу, к коширной ложке, тарелке, к коширной посудине неизбежно «потрефит» их, т. е. осквернит и сделает негодными к употреблению. Для солдата евреи заводят особый горшок, в котором особо варят ему пищу, избегая по возможности даже в самой печи ближайшего соседства горшка трефного с горшками кошир-ными. Когда солдат ест, то свою посудину он должен поставить либо на лавку, либо на какое-нибудь особое приспособление, вроде скамейки, табурета, чурбана, но никак не на тот стол, за которым едят сами евреи; исключение допускается только в корчмах, где непременно имеются трефные столы, предназначенные для нечистых «гоев», к числу которых относятся все, кто не суть евреи. В местечках живут иногда и не совсем-то бедные евреи, которые держат свои лавки, занимаются каким-нибудь более или менее определенного свойства «гандлом» и потому имеют возможность питаться чем-нибудь лучшим, нежели селедки и цибульки; и действительно, они несравненно менее отказывают себе в более лакомом и питательном куске; но опять-таки этот кусок никак не для солдата. Хлоп по крайней мере делится с солдатом тем, что и сам ест, жид никогда не поделится, никогда не отольет долю своей похлебки из своего коширного горшка в трефный горшок солдатский; для солдата он все-таки готовит особую пищу, и эта последняя несравненно хуже и скуднее его собственной. Горячую воду в горшке замутит еврейка ложкой муки, покрошит одну цибульку, кинет несколько картофелин – и предлагает это яство солдату. Любишь не любишь, а ешь, потому что есть хочется! Солдат вообще терпелив и редко когда жалуется; но постой у евреев иногда возбуждает между солдатами сетования и жалобы вполне справедливые.
– Уж не то обидно, – говорят они, – что кормят тебя черт знает какою бурдой, а то обидно, что эту самую бурду нет того, чтобы тебе поставили по-людски! – На, вот, мол, солдат, поешь, чего Бог послал; не взыщи, что пусто! Нет ведь, подлые! Сунут ее тебе под нос, словно как псу какому лядащему! Сама сунет, а сама так этта зирнёт на тебя, словно бы говорит: «На, жри, собака! Да подавись ты, окаянный!» Бот что обидно, коли по человечеству судить-то!
Это самое обстоятельство часто служит мотивом ссор между постояльцем и евреем-хозяином. Раз, помню, был такой случай: довольно зажиточный еврей – лавочник и домовладелец – долгое время кормил постояльца из рук вон плохо! Солдат терпел, терпел да и не выдержал: взял однажды свою посудину с бурдой да понес к эскадронному командиру: «Извольте, мол, посмотреть, ваше высокоблагородие, чем меня изо дня в день кормят!» Майор попробовал, и точно: мерзость была невообразимая! Призвал он к себе еврея-хозяина и внушил ему, что коли сам ешь вкусно, так и стыдно, и грешно обделять постояльца, который ничем не виноват, что ему довелось стать сюда постоем. Но еврею хоть кол на голове теши! Где бы урезониться, а он, кажись, еще хуже стал продовольствовать солдата. Тот терпит день, терпит другой, а на третий озлился, и только что ему ткнули под нос горшок с холодною бурдою, он попробовал, видит, что плохо, встал и, не говоря дурного слова, вылил сполна этот горшок на покрытую париком голову «мадам Пейсаховой». Евреи всполошились. Всполошился весь род их и племя, вся родня и знакомые! «А! сшволочь, тибе тэраз будут до Сибиру сшправляць! Гхарасшо!» – и идут всем кагалом жаловаться к эскадронному командиру; но здесь они встретили отпор, и отпор вполне справедливый, потому что взыскивать за самоуправство с солдата, который раньше этого употребил единственный оставшийся ему законный путь, с солдата, доведенного голодом до такого проявления своей досады, – едва ли было бы политично. Евреи хотели было подымать целое дело, но убоялись расходов на протори и убытки и потому остались при одних лишь угрозах.