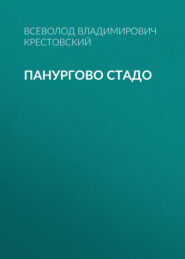По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петербургские трущобы. Том 2
Серия
Год написания книги
1866
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этот приговор осуждал ее на лишение всех прав состояния и ссылку на поселение в Томскую губернию.
– Довольны ли вы решением? – форменно спросил секретарь по окончании.
Бероева взглянула на него взором, исполненным такой горькой иронии, на какую только и может быть способен невинный человек, которого ведут на плаху и спрашивают: нравится ль ему эта прогулка?
Она внятно ответила:
– Довольна.
– В таком случае подпишитесь – здесь вот, как требует закон, – предложил ей чиновник.
Арестантка подписала под диктовку поднесенную ей бумагу, но все это исполнила как-то машинально, бессознательно, потому что и мысли в голове, и ощущения на сердце начинали путаться и мешаться между собою.
LVII
НЕДЕЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЙ
По возвращении в тюрьму Бероева уже не видела более своих тюремных товарок: ее немедленно отделили от прочих и заперли в особый, секретный нумер, потому что она с этой минуты считалась уже «решенною», преступницей.
Одна из надзирательниц принесла ей Евангелие и объявила, что в эту неделю заключенная должна говеть, исповедоваться и причаститься перед предстоящим последним актом ее трагикомедии.
С этой минуты Бероева как будто переродилась. Надежды уже не было, но не было и слез и отчаяния. Постигшее ее горе было слишком тяжело и громадно для того, чтобы разрешиться ему слезами, воплями и напрасным сетованием на судьбу и людей: оно жило в ней, висело над нею как страшная свинцовая туча, которая, медленно надвигаясь со всех концов горизонта, как будто все опускается ниже и ниже, кажется – как будто вот-вот наляжет она на грудь земли и задавит ее собою; а между тем не разрешается грозою, и если уж разразится, то моментально, чем-то ужасным и неслыханным. Так было на душе Бероевой. Она как будто даже стала совсем спокойна, даже вполне владела собою, словно бы в нормальном человеческом состоянии; но это самообладание и спокойствие заключало в себе нечто гордое, роковое, непримиримое и грозное. При внимательном взгляде сделалось бы страшно за такое спокойствие.
Первым делом она выпросила себе бумаги и перо и написала всего только несколько слов:
«Снарядите обоих детей в дорогу; они идут со мною в Сибирь. Недели через три меня, уж верно, привезут в Москву – пусть к этому времени они будут готовы».
Попросив об отправке письма, она уже никого и ни о чем не просила более, даже ни с кем не говорила все время. Когда по какой-либо надобности входили в нумер заключенницы, ее находили постоянно за чтением Евангелия; но читала она как-то машинально, безучастно к мысли этой книги, а так – потому что нечем больше наполнить бесконечно долгое, однообразное время. Приходили звать ее в церковь – она молча повиновалась, молча выстаивала службу и точно так же возвращалась оттуда в свою комнату, ни на кого не глядя, ни на что не обращая даже самого мимолетного внимания. Она только беспрекословно исполняла то, чего от нее требовала обычная формальность.
Наступил день исповеди – Бероева стала перед священником.
– Чувствуешь ли ты всю глубину и весь ужас твоего преступления? Раскаялась ли вполне и откровенно и всем сердцем и помышлением своим, чтобы быть достойною приступить к сему великому таинству? – тихо сделал он вступление перед началом своего пастырского увещания.
Эти почти формальные в подобных случаях слова показались Бероевой величайшею иронией, какою только могла судьба издеваться над нею, и она не сдержала горькой усмешки, которая легкой тенью пробежала по ее лицу.
Священник, исполняя подобным вопросом только надлежащий приступ и потому с некоторой рассеянностью глядя на предстоящую арестантку, которых, быть может, не первая уже тысяча предстояла перед ним в точно таком же положении, не заметил ее горькой улыбки, но, взглянув на ее склоненную голову, счел это за утвердительный ответ и продолжал свое увещание.
– Надо надеяться на милость Божию… И разбойник на кресте сподобился, а мы, христиане, и того наипаче, – говорил он с благочестивым воздыханием. – Участь, предстоящая тебе, положим, и весьма горестна, однако же не печалься… Я, как пастырь, желаю дать тебе духовное утешение… Ты разрываешь ныне все узы с прошлою жизнью и перед началом жизни новой…
Бероевой стало невыносимо горько и тяжело.
– Да, батюшка, с этими людьми и с этою жизнью все мои счеты покончены, – прервала она, с печальным одушевлением вскинув на него свои взоры. – Что бы там ни ждало впереди – теперь все равно! К чему утешенья?.. Мне уж не надо их больше!.. Начинайте исповедь.
Священник поглядел на нее с удивлением, но, видно, в этих глазах сказалось ему слишком уж много замкнутого в самом себе горя для того, чтобы еще растравлять его каким-либо посторонним прикосновением, и потому, помолчав с минутку, он прямо уже начал предлагать ей обычные пастырские вопросы.
На другой день, перед обедней, арестантке переменили костюм: черное платье заменилось полосатым тиковым, в каком обыкновенно ходят «нетяжкие» заключенницы, для того чтобы она не причащалась в своем «позорном татебном капоте».
Два утра следовавших за сим двух дней Бероева постоянно находилась в нервной ажитации. Она смело глядела в глаза грядущей судьбе, но страшилась единственно лишь последнего спектакля, не могла помириться с мыслью о том позоре, который неминуемо ждет ее на прощанье с покидаемой жизнью.
Каждый звук шагов, приближавшихся к ее двери, каждый поворот ключа в замке заставлял ее бледнеть и вздрагивать и холодеть, а сердце колотиться мутящей тоской ожиданья, но оба эти мучительных утра ей суждено было обманываться, и это наконец истомило ее так, что в ожидании следующего дня и тех же неизмененных ощущений она уже тоскливо спрашивала себя:
«Да скоро ли же наконец, скоро ли?.. Хоть бы кончали уже!»
После долгой и почти бессонной ночи для осужденной наступил и рассвет ее третьего утра.
LVIII
ПРОГУЛКА НА ФОРТУНКЕ К СМОЛЬНОМУ ЗАТЫЛКОМ
Во втором часу ночи на Конную площадь грузно ввалились три скрипучие телеги, наполненные грудою каких-то досок и бревен. Остановились посередине: рабочие люди стали скидывать на землю привезенный материал, а другие в это самое время на квадратном расстоянии вырыли четыре ямки, куда были вкопаны четыре столба. По глухой и безлюдной окрестности гулко раздавалось постукивание топоров да обухов, и кой-когда доносился до слуха сонного сторожа разный говор с восклицаниями то энергического, то веселого свойства.
– Ну, Андрюха, прилаживай чертохвост, прилаживай доски-ту! Что осовемши сидишь, словно тетерев какой? Работа ништо себе, веселая.
– Что в ей веселого!.. Все едино, как ни есть, а все она работа, значит.
– А тебе как?! Только бы в распивочной насчет косушек работать бы? Ишь ты, персуля какая важная!
– Терентьич! Кобылу-то утверждать аль нет?
– Кобылу не для чего, потому пороть, значит, не будут, а только так, для блезиру одного, чтобы публике, значит, пример…
– А кого это, мужика аль бабу?
– Бабу, сказывали… Люблю я это, братцы!
– Хреста на тебе нету, что ли?.. «Люблю»!.. Эки слова-то говорит какие!
– А что ж, мы ничего, мы, значит, – слова как слова! Что ж дурного?..
– Да и хорошего ничего – спина, чай, некупленная!
– Чужая – не своя.
– Погоди маленько – может, когда и до твоей доберутся.
– А что ж такое? Мы, как есть, этта, одно слово, что ничево… И для меня тогда, значит, тоже амвон этот самый поставят.
Подошли мимоходом какие-то три неизвестные личности, вида полунощно-подозрительного. Подошли, остановились и на работу поглазели.
– Что это, братцы, строится?
– А нешто не знаете?.. Штука-то ведь, поди, чай, про вашего брата работана. Кому и знать, коль не вам!
– Да ты что ж лаешься? Ты говори, коль спрашивают!
– А что вам говорить?! Вы вот погуляйте поболе по карманам, может, и отведаете… Да ладно, отваливай отседова! Нечего вам тут! Ишь ты, мазура оголтелая!
Три полунощника отходят, весьма недовольные таким нелюбезным приемом рабочих.