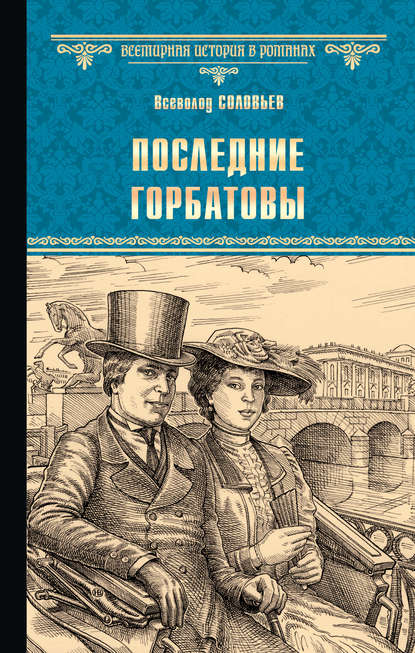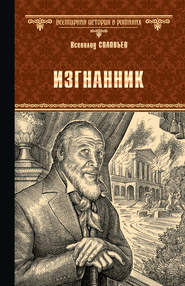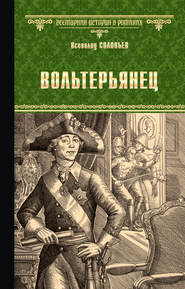По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последние Горбатовы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Прежде никак не мог, теперь иногда могу; видно, годы уже не те!.. И к Аграфене Васильевне я отношусь вовсе не цинично. Я, прекрасный мой вьюнош, поклоняюсь ее красоте, ее талантам – и только… Но согласись сам, не могу же я глядеть на нее, как на весталку… Она вон изъездила всю Европу, всю Россию, с кем с кем ни сталкивалась, чего-чего ни привелось ей видеть. Да и не ребенок, ведь… ведь ей сколько? Чай, уж не со вчерашнего дня за двадцать?..
– Двадцать шесть лет, – задумчиво проговорил Владимир.
– Вот видишь! Так надо полагать, что были всякие бури. Без этого, друг мой, нельзя, без этого не прожить женщине, а тем паче артистке…
Владимир даже покраснел, но ничего не ответил. Ему стало так противно. И вдруг Груня, эта самая Груня, которую он сейчас почти видел прежней невинной девочкой-ребенком, явилась перед ним уже совсем иною. Эта мысль о годах ее тревожной артистической жизни только сейчас представилась ему в новой окраске… Сам он давно уж не был наивным юношей и не мог не видеть в словах Барбасова значительной доли правдоподобия.
А тот между тем вдруг громко вздохнул и присвистнул:
– Плохо мое дело! – сказал он.
– Что такое?
– А все насчет той же Аграфены Васильевны. Ведь я тебя ненавидеть должен – пойми ты!.. Но только нет – зачем же? Каждому свое… А, право, счастливец ты, Владимир Сергеевич! Такая женщина, да ведь это что ж такое? Ведь это благодать!.. Самый что ни на есть счастливец! Много ли таких встретишь в жизни?
Владимир рассердился не на шутку.
– Послушай, Барбасов, всему есть предел; мы, кажется, давно не школьники, и такое школьничество не у места. Я знал ее ребенком, теперь увидел ее в первый раз, у нас общие воспоминания детства. Я здесь в Москве временно, наша встреча случайная, и уж, конечно, ухаживать за нею я не имею намерения, а потому, пожалуйста, прекратим разговор этот…
Барбасов вдруг сделался серьезным и проговорил:
– Только позволь мне сказать одно: что ваша встреча случайная – это верно, что у тебя нет относительно ее никаких мыслей – это тоже вероятно, и прости меня, если в моих словах что-нибудь тебе не понравилось, но чтобы, раз встретясь, вы так и разошлись – извини, этого не может быть! Не такая она женщина, и не то говорили глаза ее сегодня… Молчу!.. Молчу!.. – прибавил он, видя, что сильно раздражает Владимира.
Он переменил разговор, стал передавать всякие московские сплетни, расспрашивая Владимира об его петербургской службе. Владимир отвечал не особенно охотно, но все же отвечал.
– Так, так, – говорил Барбасов, – вижу я, вижу, что тебя плохо там вымуштровали!.. Не сумел ты в настоящую колею попасть, в бюрократическую… дилетантством отзывается… А ведь это, сударь, нехорошо, с этим ты далеко не уйдешь… Эх, вот бы меня на твое место! Зашагал бы я быстро, где ползком, где шажком, а где вприскочку… Но каждому свое: я своим делом, нельзя сказать, чтобы очень был недоволен…
Он распространился о своих успехах, о том, какие неслыханные деньги получал за последние годы. Владимир слушал его рассеянно.
Таким образом они доехали до Басманной, а затем до самого Горбатовского дома. Владимир вопросительно взглянул на Барбасова. Тот встрепенулся.
– Ах, это ваш дом! – сказал он. – Не позволишь ли мне заехать… у меня еще целый час свободный… Я, видишь ли, уже давно имею удовольствие быть представленным твоим сестрам и твоей почтенной тетушке… Как же, как же! Не одну кадриль протанцевал и с Софьей Сергеевной, и с Марьей Сергеевной. До сих пор ведь я танцую… или, вернее, вновь начал… как нас там учили у Тиммермана – уже позабыл, так, веришь ли, в прошлом году брал уроки мазурки, целых двадцать уроков… ни одного бала и раута у генерал-губернатора не пропускаю… вообще, снова к юности вернулся… Что делать… иногда это небесполезно… даже очень… и в нашей профессии…
Коляска остановилась у широкого подъезда. Барбасов хотел было соскочить по всем правилам недавно изученной им мазурки, но споткнулся и даже зашиб себе ногу о каменную ступень. Однако он этим не смутился и, приняв важный и степенный вид, последовал за Владимиром.
– Так что же, любезный друг, – сказал он, – puis-je me prеsenter sous tes auspices?[9 - Мне считать, что я под твоим покровительством? (фр.)]
«Вот нахал!» – невольно подумал Владимир и спросил у швейцара: принимают ли Клавдия Николаевна и барышни. Барбасов с видимым удовольствием услышал утвердительный ответ и стал осматриваться.
– Д-да! Домик! – протянул он.
Они поднялись по лестнице, прошли несколько огромных комнат, дышавших той роскошью старины, которую не купишь ни за какие деньги, и очутились в небольшой гостиной, где у окна, в кресле, вся в черном, съежившаяся, прозрачная и унылая, сидела с книгой в руке Клавдия Николаевна.
Барбасов подобрался, потом вытянулся и вдруг сообразил, что его чересчур яркий костюм совсем не у места в этом траурном доме и непригоден для первого визита. Он готов даже был ретироваться, но оказалось поздно: Клавдия Николаевна оторвалась от книги, подняла свои темные глаза.
– C'est toi, mon ami! – произнесла она. – D'ou viens-tu?[10 - Это ты, друг мой! Откуда приехал? (фр.)] – и, вдруг заметив фигуру Барбасова, с недоумением и изумлением на него прищурилась.
– Это мой старый товарищ, Барбасов, – сказал Владимир, – вы ведь уж с ним знакомы…
Но она решительно никакого Барбасова не помнила.
Она склонила голову в ответ на почтительный поклон гостя, слабым движением руки указала ему на стул и скорее вздохнула, чем проговорила:
– Очень рада вас видеть…
XII. Зачем он здесь?
На пороге появилась стройная и грациозная фигура Софьи Сергеевны.
Да, теперь уж это была не Соня, не даже Софи, а Софья Сергеевна. Каждый, взглянув на нее, непременно должен был признать ее красивой, хотя сухая холодная красота ее миниатюрного и тонкого лица много потеряла вместе со свежестью и оживлением первой юности. Эти, по-видимому, спокойные, мирные годы прошли далеко не бесследно.
Софье Сергеевне было теперь двадцать шесть лет. В иные дни, особенно при вечернем освещении, она казалась моложе. Среди оживления бала или в гостиной, со своим тоненьким голоском, с капризными иногда, но, во всяком случае, до тонкости изученными движениями и манерами, она продолжала производить впечатление воздушной ingеnue[11 - Наивной девушки (фр.).].
Но дома, на свободе, без прикрас и эффектов обдуманного туалета, в строгом траурном платье, она теперь появилась такою, какою была на самом деле, то есть слишком даже рано поблекшей девушкой. Ее несколько лет тому назад ослепительный цвет лица принял теперь желтоватый оттенок, щеки были бледны, на лбу и вокруг глаз уже образовались тоненькие нити морщинок, делавшиеся совсем заметными, когда она оживленно говорила или смеялась. Поэтому она, изучившая свое лицо до мельчайших подробностей и давно уже приходящая в ужас от этих морщинок, всеми силами старалась не смеяться и не оживляться, одним словом, ни при каких обстоятельствах не забывать о своем лице. Она уже робко и осторожно, под величайшим секретом от всех, стала даже прибегать к некоторым косметикам, к каким-то средствам вроде lait de beautе[12 - Косметического молочка (фр.).], от которых тщетно ждала помощи.
Уходящая, и так бессовестно рано, так предательски быстро, молодость – это было теперь несчастье ее жизни. Несчастье для нее настоящее, доставлявшее ей много никому не ведомых страданий. Да, она считала себя глубоко несчастной, жестоко обиженной судьбою и людьми, не умевшими понять и оценить ее. Она искренне чувствовала, что общество страшно виновато перед нею, что она загубила себя в низменной среде.
Прежде всего, конечно, виноваты были родные, начиная с отца, которого, – она даже и не скрывала это, – она и презирала, и почти ненавидела. Виноват был и покойный дедушка, и Клавдия Николаевна, и все, все без исключения. Между тем, если бы спросить ее, в чем именно заключалась их вина, она, конечно, не могла бы ответить.
По семейным обстоятельствам она большее время своей жизни прожила в Москве, но каждое лето уезжала за границу. Две зимы она провеселилась в Петербурге, где для нее строгая отшельница, Марья Александровна Горбатова, даже изменила своим привычкам и сделала все, чтобы доставить удовольствие племяннице. Она отдалась в ее распоряжение и вывозила ее всюду.
У Софьи Сергеевны была одна заветная мечта – и мечта эта осуществилась – ее пожаловали фрейлиной к государыне. Она появлялась на всех придворных балах и собраниях. Но опять-таки это ни к чему не привело. На третью зиму она уже не поехала в Петербург, чувствуя себя почему-то и там оскорбленной всеми. И она почла бы клеветником того человека, который сказал бы ей, что сама она виновата в своей неудаче. Она держала себя так гордо и в то же время при всяком удобном и неудобном даже случае так злословила, так чванилась, что все те, кто сначала заинтересовался было ею, скоро от нее совсем отстали.
У нее явились определенные честолюбивые планы – она наметила единственного человека, которого почла достойным и себе равным. Приняв за основание несколько любезных фраз, ей сказанных, она создала себе самые несбыточные надежды. Она сделала хуже – дала кое-что заметить и понять этому человеку. Он с изумлением отошел и даже стал, видимо, избегать ее.
Она была уверена, что никто ничего не знает, а между тем у нее уже были враги, то есть люди, возмущенные ее чванством и злым языком. Эти враги пустили сплетню и в свою очередь жестоко посмеялись над нею. Поэтому-то она и не вернулась в Петербург на третью зиму.
Конечно, она не любила этого, так неудачно намеченного ею человека; конечно, он ровно ни в чем – ни словом, ни помышлением не был виноват перед нею, но она вообразила, что он дурно с нею поступил, вообразила, что сердце ее разбито, и с этого времени в ней стало развиваться окончательно недовольство жизнью. Характер ее, никогда не бывший приятным, с каждым днем делался теперь невыносимее. Она придиралась ко всему и ко всем, ее ничем нельзя было удовлетворить, и бедная Клавдия Николаевна испивала иногда горькую чашу.
Наконец Софья Сергеевна, убедясь, что прошлого не вернешь, что продолжать думать о том единственном равном ей человеке нечего, решила, что ведь не может же она остаться так, что уж если судьба не дала ей возможности как следует устроиться, то все же должна она выйти замуж. Она готова была теперь принять обыденную долю; если бы теперь тот первый, единственный, ее жених или кто-нибудь в этом роде ей представился, она вышла бы замуж без всяких рассуждений. Она даже вдруг стала снисходить, обращала свое благосклонное внимание то на одного, то на другого.
Но все ее старания пропадали даром: никто не делал ей предложения и, мало того, с ужасом она замечала, что к ней относятся уже не так, как относились прежде, как вообще относятся к молодым девушкам, – к ней относились с большим почтением, и это почтение доводило ее до отчаянья.
А время шло, и проклятые морщинки, несмотря ни на какие «lait de beautе», обрисовывались заметнее и заметнее. У нее задавались теперь целые дни, целые недели глубокой тоски, тем более невыносимой, что не с кем было ею поделиться. Софья Сергеевна скорее бы умерла, чем призналась кому-либо в своих муках…
Теперь она вышла в гостиную бледная и скучающая, с изумлением взглянула на Барбасова, ответила на его почтительный поклон пренебрежительным кивком головы, остановилась было, но затем прошла через гостиную и скрылась.
Владимир вышел за нею и остановил ее:
– Соня, ты куда? – сказал он. – Посиди немного в гостиной, помоги тете, а то у нее сегодня такой вид, что глядеть страшно.
– Это еще что за явление? – вместо ответа проговорила Софья Сергеевна.
– Барбасов? Да ведь ты его знаешь.
– Кажется, знаю, как приходится знать бог знает кого… Но зачем он у нас, этот пестрый и неприличный урод?
– Он мой старый товарищ.
– Двадцать шесть лет, – задумчиво проговорил Владимир.
– Вот видишь! Так надо полагать, что были всякие бури. Без этого, друг мой, нельзя, без этого не прожить женщине, а тем паче артистке…
Владимир даже покраснел, но ничего не ответил. Ему стало так противно. И вдруг Груня, эта самая Груня, которую он сейчас почти видел прежней невинной девочкой-ребенком, явилась перед ним уже совсем иною. Эта мысль о годах ее тревожной артистической жизни только сейчас представилась ему в новой окраске… Сам он давно уж не был наивным юношей и не мог не видеть в словах Барбасова значительной доли правдоподобия.
А тот между тем вдруг громко вздохнул и присвистнул:
– Плохо мое дело! – сказал он.
– Что такое?
– А все насчет той же Аграфены Васильевны. Ведь я тебя ненавидеть должен – пойми ты!.. Но только нет – зачем же? Каждому свое… А, право, счастливец ты, Владимир Сергеевич! Такая женщина, да ведь это что ж такое? Ведь это благодать!.. Самый что ни на есть счастливец! Много ли таких встретишь в жизни?
Владимир рассердился не на шутку.
– Послушай, Барбасов, всему есть предел; мы, кажется, давно не школьники, и такое школьничество не у места. Я знал ее ребенком, теперь увидел ее в первый раз, у нас общие воспоминания детства. Я здесь в Москве временно, наша встреча случайная, и уж, конечно, ухаживать за нею я не имею намерения, а потому, пожалуйста, прекратим разговор этот…
Барбасов вдруг сделался серьезным и проговорил:
– Только позволь мне сказать одно: что ваша встреча случайная – это верно, что у тебя нет относительно ее никаких мыслей – это тоже вероятно, и прости меня, если в моих словах что-нибудь тебе не понравилось, но чтобы, раз встретясь, вы так и разошлись – извини, этого не может быть! Не такая она женщина, и не то говорили глаза ее сегодня… Молчу!.. Молчу!.. – прибавил он, видя, что сильно раздражает Владимира.
Он переменил разговор, стал передавать всякие московские сплетни, расспрашивая Владимира об его петербургской службе. Владимир отвечал не особенно охотно, но все же отвечал.
– Так, так, – говорил Барбасов, – вижу я, вижу, что тебя плохо там вымуштровали!.. Не сумел ты в настоящую колею попасть, в бюрократическую… дилетантством отзывается… А ведь это, сударь, нехорошо, с этим ты далеко не уйдешь… Эх, вот бы меня на твое место! Зашагал бы я быстро, где ползком, где шажком, а где вприскочку… Но каждому свое: я своим делом, нельзя сказать, чтобы очень был недоволен…
Он распространился о своих успехах, о том, какие неслыханные деньги получал за последние годы. Владимир слушал его рассеянно.
Таким образом они доехали до Басманной, а затем до самого Горбатовского дома. Владимир вопросительно взглянул на Барбасова. Тот встрепенулся.
– Ах, это ваш дом! – сказал он. – Не позволишь ли мне заехать… у меня еще целый час свободный… Я, видишь ли, уже давно имею удовольствие быть представленным твоим сестрам и твоей почтенной тетушке… Как же, как же! Не одну кадриль протанцевал и с Софьей Сергеевной, и с Марьей Сергеевной. До сих пор ведь я танцую… или, вернее, вновь начал… как нас там учили у Тиммермана – уже позабыл, так, веришь ли, в прошлом году брал уроки мазурки, целых двадцать уроков… ни одного бала и раута у генерал-губернатора не пропускаю… вообще, снова к юности вернулся… Что делать… иногда это небесполезно… даже очень… и в нашей профессии…
Коляска остановилась у широкого подъезда. Барбасов хотел было соскочить по всем правилам недавно изученной им мазурки, но споткнулся и даже зашиб себе ногу о каменную ступень. Однако он этим не смутился и, приняв важный и степенный вид, последовал за Владимиром.
– Так что же, любезный друг, – сказал он, – puis-je me prеsenter sous tes auspices?[9 - Мне считать, что я под твоим покровительством? (фр.)]
«Вот нахал!» – невольно подумал Владимир и спросил у швейцара: принимают ли Клавдия Николаевна и барышни. Барбасов с видимым удовольствием услышал утвердительный ответ и стал осматриваться.
– Д-да! Домик! – протянул он.
Они поднялись по лестнице, прошли несколько огромных комнат, дышавших той роскошью старины, которую не купишь ни за какие деньги, и очутились в небольшой гостиной, где у окна, в кресле, вся в черном, съежившаяся, прозрачная и унылая, сидела с книгой в руке Клавдия Николаевна.
Барбасов подобрался, потом вытянулся и вдруг сообразил, что его чересчур яркий костюм совсем не у места в этом траурном доме и непригоден для первого визита. Он готов даже был ретироваться, но оказалось поздно: Клавдия Николаевна оторвалась от книги, подняла свои темные глаза.
– C'est toi, mon ami! – произнесла она. – D'ou viens-tu?[10 - Это ты, друг мой! Откуда приехал? (фр.)] – и, вдруг заметив фигуру Барбасова, с недоумением и изумлением на него прищурилась.
– Это мой старый товарищ, Барбасов, – сказал Владимир, – вы ведь уж с ним знакомы…
Но она решительно никакого Барбасова не помнила.
Она склонила голову в ответ на почтительный поклон гостя, слабым движением руки указала ему на стул и скорее вздохнула, чем проговорила:
– Очень рада вас видеть…
XII. Зачем он здесь?
На пороге появилась стройная и грациозная фигура Софьи Сергеевны.
Да, теперь уж это была не Соня, не даже Софи, а Софья Сергеевна. Каждый, взглянув на нее, непременно должен был признать ее красивой, хотя сухая холодная красота ее миниатюрного и тонкого лица много потеряла вместе со свежестью и оживлением первой юности. Эти, по-видимому, спокойные, мирные годы прошли далеко не бесследно.
Софье Сергеевне было теперь двадцать шесть лет. В иные дни, особенно при вечернем освещении, она казалась моложе. Среди оживления бала или в гостиной, со своим тоненьким голоском, с капризными иногда, но, во всяком случае, до тонкости изученными движениями и манерами, она продолжала производить впечатление воздушной ingеnue[11 - Наивной девушки (фр.).].
Но дома, на свободе, без прикрас и эффектов обдуманного туалета, в строгом траурном платье, она теперь появилась такою, какою была на самом деле, то есть слишком даже рано поблекшей девушкой. Ее несколько лет тому назад ослепительный цвет лица принял теперь желтоватый оттенок, щеки были бледны, на лбу и вокруг глаз уже образовались тоненькие нити морщинок, делавшиеся совсем заметными, когда она оживленно говорила или смеялась. Поэтому она, изучившая свое лицо до мельчайших подробностей и давно уже приходящая в ужас от этих морщинок, всеми силами старалась не смеяться и не оживляться, одним словом, ни при каких обстоятельствах не забывать о своем лице. Она уже робко и осторожно, под величайшим секретом от всех, стала даже прибегать к некоторым косметикам, к каким-то средствам вроде lait de beautе[12 - Косметического молочка (фр.).], от которых тщетно ждала помощи.
Уходящая, и так бессовестно рано, так предательски быстро, молодость – это было теперь несчастье ее жизни. Несчастье для нее настоящее, доставлявшее ей много никому не ведомых страданий. Да, она считала себя глубоко несчастной, жестоко обиженной судьбою и людьми, не умевшими понять и оценить ее. Она искренне чувствовала, что общество страшно виновато перед нею, что она загубила себя в низменной среде.
Прежде всего, конечно, виноваты были родные, начиная с отца, которого, – она даже и не скрывала это, – она и презирала, и почти ненавидела. Виноват был и покойный дедушка, и Клавдия Николаевна, и все, все без исключения. Между тем, если бы спросить ее, в чем именно заключалась их вина, она, конечно, не могла бы ответить.
По семейным обстоятельствам она большее время своей жизни прожила в Москве, но каждое лето уезжала за границу. Две зимы она провеселилась в Петербурге, где для нее строгая отшельница, Марья Александровна Горбатова, даже изменила своим привычкам и сделала все, чтобы доставить удовольствие племяннице. Она отдалась в ее распоряжение и вывозила ее всюду.
У Софьи Сергеевны была одна заветная мечта – и мечта эта осуществилась – ее пожаловали фрейлиной к государыне. Она появлялась на всех придворных балах и собраниях. Но опять-таки это ни к чему не привело. На третью зиму она уже не поехала в Петербург, чувствуя себя почему-то и там оскорбленной всеми. И она почла бы клеветником того человека, который сказал бы ей, что сама она виновата в своей неудаче. Она держала себя так гордо и в то же время при всяком удобном и неудобном даже случае так злословила, так чванилась, что все те, кто сначала заинтересовался было ею, скоро от нее совсем отстали.
У нее явились определенные честолюбивые планы – она наметила единственного человека, которого почла достойным и себе равным. Приняв за основание несколько любезных фраз, ей сказанных, она создала себе самые несбыточные надежды. Она сделала хуже – дала кое-что заметить и понять этому человеку. Он с изумлением отошел и даже стал, видимо, избегать ее.
Она была уверена, что никто ничего не знает, а между тем у нее уже были враги, то есть люди, возмущенные ее чванством и злым языком. Эти враги пустили сплетню и в свою очередь жестоко посмеялись над нею. Поэтому-то она и не вернулась в Петербург на третью зиму.
Конечно, она не любила этого, так неудачно намеченного ею человека; конечно, он ровно ни в чем – ни словом, ни помышлением не был виноват перед нею, но она вообразила, что он дурно с нею поступил, вообразила, что сердце ее разбито, и с этого времени в ней стало развиваться окончательно недовольство жизнью. Характер ее, никогда не бывший приятным, с каждым днем делался теперь невыносимее. Она придиралась ко всему и ко всем, ее ничем нельзя было удовлетворить, и бедная Клавдия Николаевна испивала иногда горькую чашу.
Наконец Софья Сергеевна, убедясь, что прошлого не вернешь, что продолжать думать о том единственном равном ей человеке нечего, решила, что ведь не может же она остаться так, что уж если судьба не дала ей возможности как следует устроиться, то все же должна она выйти замуж. Она готова была теперь принять обыденную долю; если бы теперь тот первый, единственный, ее жених или кто-нибудь в этом роде ей представился, она вышла бы замуж без всяких рассуждений. Она даже вдруг стала снисходить, обращала свое благосклонное внимание то на одного, то на другого.
Но все ее старания пропадали даром: никто не делал ей предложения и, мало того, с ужасом она замечала, что к ней относятся уже не так, как относились прежде, как вообще относятся к молодым девушкам, – к ней относились с большим почтением, и это почтение доводило ее до отчаянья.
А время шло, и проклятые морщинки, несмотря ни на какие «lait de beautе», обрисовывались заметнее и заметнее. У нее задавались теперь целые дни, целые недели глубокой тоски, тем более невыносимой, что не с кем было ею поделиться. Софья Сергеевна скорее бы умерла, чем призналась кому-либо в своих муках…
Теперь она вышла в гостиную бледная и скучающая, с изумлением взглянула на Барбасова, ответила на его почтительный поклон пренебрежительным кивком головы, остановилась было, но затем прошла через гостиную и скрылась.
Владимир вышел за нею и остановил ее:
– Соня, ты куда? – сказал он. – Посиди немного в гостиной, помоги тете, а то у нее сегодня такой вид, что глядеть страшно.
– Это еще что за явление? – вместо ответа проговорила Софья Сергеевна.
– Барбасов? Да ведь ты его знаешь.
– Кажется, знаю, как приходится знать бог знает кого… Но зачем он у нас, этот пестрый и неприличный урод?
– Он мой старый товарищ.