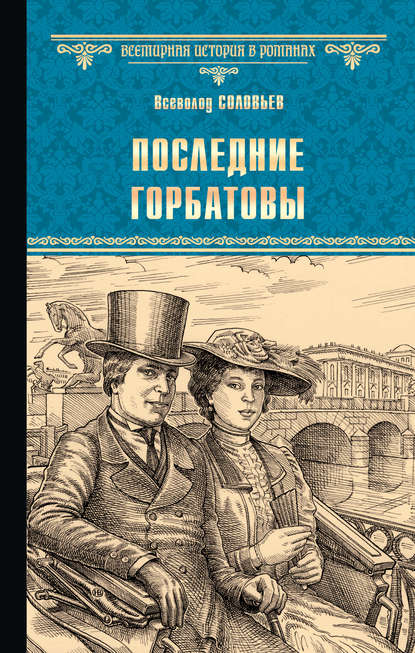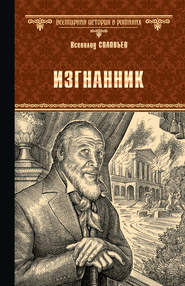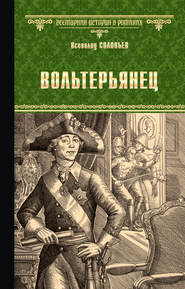По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последние Горбатовы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Между тем больной продолжал:
– И зачем они все меня обманывают, толкуют о выздоровлении, и главное, как будто я боюсь смерти?.. Да она моя жданная, желанная гостья… может, давно уже зову ее, только не приходила.
Борис Сергеевич вдруг замолчал, закрыл глаза, и через несколько минут Степушка даже подумал, что он заснул.
Но он не спал. Ему ясно, подробно и спокойно представилась вся жизнь, и он внутренне назвал ее долгим, тяжелым сном. Зачем она была?.. К чему она привела его? Что сделал он с нею?.. Он терпеливо ее вынес – и только… Кому она была нужна?..
Он вообще никогда не задавал себе вопроса, что он за человек, какая ему цена, и теперь готов был решить этот вставший перед ним вопрос в том смысле, что он был человеком совсем неудачным, которому и незачем было жить на свете.
Однако он не в состояния был сделать себе беспристрастную оценку. Он вовсе не был неудачным человеком, потому что добросовестно исполнил дело своей жизни, никому не сделал зла, а добра сделал много, хотя оно и не кричало, не превозносилось. Вся жизнь его была стремлением к справедливости и правде. Он с юности вел неустанную внутреннюю борьбу и умирал победителем, умирал человеком света и правды…
Через две недели доктора сказали, что теперь уже скоро все кончится. Клавдия Николаевна поспешила известить всех родных.
Борис Сергеевич вдруг потребовал, чтобы его непременно перевезли в московский дом, объявил, что он желает умереть там, у себя. Желание его было исполнено. К первому июля съехались родные, то есть оба племянника, Сергей и Николай, жена Николая, Марья Александровна, и сын их, Гриша, молодой офицер. Владимир приехал еще раньше.
Борис Сергеевич призвал Прыгунова, уже пятнадцать лет занимавшегося его делами, сделал все распоряжения, обо всем и обо всех позаботился и спокойно ждал смерти.
Кто знал этих съехавшихся к постели умиравшего людей пятнадцать лет тому назад, тот должен был найти в них всех огромную перемену. Сергей Владимирович производил теперь даже тягостное впечатление. Ему еще не было и пятидесяти лет, но он имел вид старика. Когда-то густые, чудесные его волосы совсем почти вылезли, а остатки их поседели; тонкий стан согнулся; широкая богатырская фигура как-то опустилась, лицо, изборожденное морщинами, потеряло прежнее добродушное и милое выражение, и уже почти никогда не играла на губах его та улыбка, которая привораживала к нему почти всех и заставляла забывать его слабости. Здоровье его было совсем разбито.
Перемена, происшедшая в Николае Владимировиче, была совсем иного рода, но она, пожалуй, поражала еще больше. Это был теперь какой-то странный человек, производивший самое неожиданное и непонятное впечатление. Прежних порывов, прежних неровностей характера в нем не было и следа.
Вернувшись в Петербург из своего таинственного путешествия по Азии, длившегося несколько лет, он оказался как будто совсем перерожденным. Он поселился вместе с женою и сыном, но отказался от всякой общественной деятельности и почти избегал общества.
Как он жил, как проводил время за запертыми дверями своего кабинета, он, этот прежний живой, страстный человек, способный, имевший влияние, жаждавший деятельности, этого никто не знал. Какова была его семейная жизнь – тоже не знал никто.
Кончили тем, что даже стали считать его помешанным, хотя при редких столкновениях с обществом он всегда рассуждал очень спокойно и основательно. Он просто ничем не интересовался из того, чем интересовались окружавшие его люди. Он не принимал участия в общей жизни.
Многочисленная прислуга петербургского горбатовского дома знала, что барин сделался очень странным, что он иногда совсем как живой мертвец, так, что даже с ним страшно встречаться, и особенно страшно, когда он взглянет – глаза словно огненные, а так холодно от них становится, что, кажется, бежал бы от такого взгляда.
Удивляли тоже прислугу и отношения между барином и барыней. Они жили на разных половинах, иной раз не видались по целым дням, а между тем никто и никогда не слыхал между ними ничего, указывавшего на их недовольство друг другом. Напротив того, оставаясь вместе, они всегда беседовали ласково и относились друг к другу с большой предупредительностью, почти даже с нежностью.
С такой же предупредительностью относился Николай Владимирович и к сыну.
Во всяком случае, это была такая странная жизнь, что если она не возбуждала всеобщего любопытства, так единственно потому, что люди ко всему привыкают, а привыкнув, не замечают того, что прежде бросалось в глаза.
Что касается до Марьи Александровны, то, по общим отзывам прислуги (а это значит весьма много), она была совсем святая.
– Да, уж нечего сказать, хорошая барыня, – говорить о ней в людских и кухне, – такую всю жизнь искать – так не найдешь. Никто-то от нее дурного слова не слышал, а добра сколько делает!
– И ведь что удивленья достойно, – замечал старый дворецкий, пользовавшийся всеобщим уважением, – ведь при покойнице, при Катерине Михайловне, совсем она была другая… А это вот с тех самых пор ее и не узнать…
И все отлично понимали, что должно подразумевать под этими словами: «с тех самых пор».
Да, Мари никто бы не узнал теперь. Несмотря на то, что ее молодость уже прошла, она все еще была красивая женщина. Прежней излишней полноты в ней не было заметно, не было заметно также и в лице ничего тусклого, рассеянного. Лицо ее было просто спокойно, а в светлых глазах неизменно читалось выражение доброты и тихой грусти.
Но, несмотря на это грустное выражение, никому и в голову не могло прийти жалеть ее, в ней не было ничего говорящего о несчастье, напротив, она была всегда бодра, спокойна и энергична.
Она наполнила свою жизнь сознательной деятельностью, работала неустанно на пользу ближнего и, принимая участие в каком-нибудь благотворительном учреждении, давала ему не только свое имя и денежные средства, а давала свою действительную работу. И теперь в этот тихий, приунывший московский дом она внесла с собою присущую ей атмосферу спокойствия и бодрости.
Михаил Иванович Бородин, тоже приехавший, остановился не в доме, а в гостинице. Теперь в Москве у него уже не было близких людей. За эти годы ему пришлось похоронить их всех. Умерли старики Бородины почти одновременно; умерла, еще прежде них, Капитолина Ивановна. После смерти отца и матери Михаил Иванович перевез жену и детей в Петербург и прекратил свои поездки в Москву.
И в нем произошла своего рода большая перемена: в его волосах тоже серебрилась седина, на его красивом лбу и вокруг темных полузакрытых глаз насчитывалось немало морщинок. Но он был крепок и бодр. Глядя на него, невольно всякий должен был сказать: вот человек, стоящий твердо, знающий себе цену и довольный жизнью.
Он стоял твердо. Его лучшая мечта осуществилась… Он в настоящее время занимал видное положение на службе, но еще большее у него было значенье в финансовом мире. Михаил Иванович стал теперь силой, перед которой преклонялись многие и с которой приходилось считаться. Все его финансовые предприятия оказывались удачными. Его богатство росло с каждым годом, его уже иначе не называли, как миллионером.
Борис Сергеевич умер в сознании, простясь со всеми, благословив всех, умер как праведник, выражаясь словами осиротевшего и неутешного Степана.
Когда завещание было вскрыто, оказалось, что все свое состояние, заключавшееся в недвижимой собственности, родовых имениях, он поровну оставил двум племянникам, Сергею и Николаю.
Кроме недвижимой собственности у Бориса Сергеевича был большой капитал, хотя далеко и не такой, как многие думали. Старик, живший всегда сравнительно скромно, тем не менее тратил в эти последние пятнадцать лет огромные деньги. Сергей Владимирович знал кое-что об этом, а еще больше знали его кредиторы. Знал тоже кое-что и Михаил Иванович Бородин, постоянно возраставшее состояние которого имело своим главным основанием и постоянной поддержкой деньги Бориса Сергеевича.
Старик оставил после себя два с половиной миллиона деньгами. Пятьсот тысяч переходили по завещанию не к прямым наследникам, а к разным лицам; в том числе полтораста тысяч рублей получила Клавдия Николаевна, пятьдесят тысяч – Груня, пятьдесят тысяч – Прыгунов, бывший в последние годы самым близким человеком Бориса Сергеевича, тридцать тысяч – Степан.
Всех лиц, о которых вспомнил умиравший, насчитывалось до ста.
Два же миллиона были поровну разделены между детьми Сергея Владимировича.
Тело Бориса Сергеевича в сопровождении всех родных и Бородина было перевезено в Горбатовское и похоронено в родовом склепе.
Затем все вернулись в Москву для исполнения необходимых формальностей…
IX. Бывшие друзья
Сентябрь уже перешел за половину, а погода не портилась. Стояли чудесные дни, и только быстро осыпавшиеся листья напоминали о том, что пришла настоящая осень.
Кондрат Кузьмич, несмотря на старость, ни в чем не изменивший свои привычки, посещал аккуратно все церковные службы и почти ежедневно отправлялся на Басманную, где у него, по случаю смерти Бориса Сергеевича, еще было много дела. Таким образом Груня почти целые дни оставалась одна дома.
Уже шестой день как она приехала, а между тем всего один раз вышла прогуляться на бульвар, да и то скоро вернулась. Ее никуда не тянуло, она не хотела разыскивать своих прежних знакомых и приятельниц, не зная, как ее встретят после стольких лет ее скитальческой жизни.
Она почти все время проводила в садике, в старой беседке, иногда с какой-нибудь книгой из библиотеки Кондрата Кузьмича, а чаще всего так, сложа руки, отдаваясь не то раздумью, не то просто лени. Да, лени: физическая лень ее одолела, всегда энергичную, живую и подвижную. Она будто теперь только почувствовала за все эти годы усталость – и отдыхала.
Нельзя сказать, чтобы она чувствовала себя несчастной, чтобы она особенно грустила. Конечно, ей не было весело, но было спокойно, тихо. Она жила эти дни чисто растительной жизнью, по целым часам могла оставаться неподвижной в старом кресле Кондрата Кузьмича, разглядывая каждый кустик, каждый еще не увядший цветок астр в маленькой клумбочке перед беседкой, прислушиваясь к чириканью воробьев, кудахтанью кур, доносившемуся со двора, к дальнему благовесту, следя за движением облаков…
Это было такое затишье, какого она до сих пор никогда не переживала, но затишье перед чем – она об этом не думала или, вернее, боялась думать…
И вот на шестой день пребывания своего в домике Прыгунова сидела она после скромного завтрака, поданного ей Настасьюшкой, в беседке, сидела, отогнав от себя подступившую было мысль о том, что надо же наконец очнуться, остановиться на каком-нибудь решении, сделать какие-нибудь необходимые шаги, приняться за дело, для которого она сюда приехала.
Кондрата Кузьмича не было дома, кругом все тихо, даже не слышно кур, даже воробьи не чирикают, – и вдруг шаги, кто-то сходит с балкончика и направляется к беседке.
Груня взглянула, увидела быстро приближавшуюся мужскую фигуру. Она подумала, что это, пожалуй, приехал повидаться с отцом один из сыновей Кондрата Кузьмича, подумала о том, что очень рада, если это Вася, младший, с которым она даже время от времени переписывалась.
Перед нею молодой человек. Она глядит, но это вовсе не Вася и не Саша. Кто же это? Сердце ее почти перестало биться… Она вгляделась – молодой человек, красивый, с большими голубыми глазами. Он весь в черном, с крепом на руке. Он остановился, его бледные щеки вспыхнули.
– Груня… ты… вы… вы меня не узнаете? – проговорил он.
Она его уже узнала, хотя он был совсем не таким, каким почему-то ей представлялся. Но она не могла не узнать его глаз. Эти глаза остались те же, знакомые, милые глаза, с которыми соединялось все лучшее, хотя и грустное, что было в ее безрадостном детстве…
Это он, он, ее единственный друг, маленький волшебник огромного Знаменского парка, ее рыцарь, герой еще почти неосознанных ею грез, сохраненных ею в себе, несмотря на окружавшую ее так долго житейскую грязь, несмотря на все циничные уроки той злой силы, которую вокруг нее называли практической жизнью, действительностью…
– И зачем они все меня обманывают, толкуют о выздоровлении, и главное, как будто я боюсь смерти?.. Да она моя жданная, желанная гостья… может, давно уже зову ее, только не приходила.
Борис Сергеевич вдруг замолчал, закрыл глаза, и через несколько минут Степушка даже подумал, что он заснул.
Но он не спал. Ему ясно, подробно и спокойно представилась вся жизнь, и он внутренне назвал ее долгим, тяжелым сном. Зачем она была?.. К чему она привела его? Что сделал он с нею?.. Он терпеливо ее вынес – и только… Кому она была нужна?..
Он вообще никогда не задавал себе вопроса, что он за человек, какая ему цена, и теперь готов был решить этот вставший перед ним вопрос в том смысле, что он был человеком совсем неудачным, которому и незачем было жить на свете.
Однако он не в состояния был сделать себе беспристрастную оценку. Он вовсе не был неудачным человеком, потому что добросовестно исполнил дело своей жизни, никому не сделал зла, а добра сделал много, хотя оно и не кричало, не превозносилось. Вся жизнь его была стремлением к справедливости и правде. Он с юности вел неустанную внутреннюю борьбу и умирал победителем, умирал человеком света и правды…
Через две недели доктора сказали, что теперь уже скоро все кончится. Клавдия Николаевна поспешила известить всех родных.
Борис Сергеевич вдруг потребовал, чтобы его непременно перевезли в московский дом, объявил, что он желает умереть там, у себя. Желание его было исполнено. К первому июля съехались родные, то есть оба племянника, Сергей и Николай, жена Николая, Марья Александровна, и сын их, Гриша, молодой офицер. Владимир приехал еще раньше.
Борис Сергеевич призвал Прыгунова, уже пятнадцать лет занимавшегося его делами, сделал все распоряжения, обо всем и обо всех позаботился и спокойно ждал смерти.
Кто знал этих съехавшихся к постели умиравшего людей пятнадцать лет тому назад, тот должен был найти в них всех огромную перемену. Сергей Владимирович производил теперь даже тягостное впечатление. Ему еще не было и пятидесяти лет, но он имел вид старика. Когда-то густые, чудесные его волосы совсем почти вылезли, а остатки их поседели; тонкий стан согнулся; широкая богатырская фигура как-то опустилась, лицо, изборожденное морщинами, потеряло прежнее добродушное и милое выражение, и уже почти никогда не играла на губах его та улыбка, которая привораживала к нему почти всех и заставляла забывать его слабости. Здоровье его было совсем разбито.
Перемена, происшедшая в Николае Владимировиче, была совсем иного рода, но она, пожалуй, поражала еще больше. Это был теперь какой-то странный человек, производивший самое неожиданное и непонятное впечатление. Прежних порывов, прежних неровностей характера в нем не было и следа.
Вернувшись в Петербург из своего таинственного путешествия по Азии, длившегося несколько лет, он оказался как будто совсем перерожденным. Он поселился вместе с женою и сыном, но отказался от всякой общественной деятельности и почти избегал общества.
Как он жил, как проводил время за запертыми дверями своего кабинета, он, этот прежний живой, страстный человек, способный, имевший влияние, жаждавший деятельности, этого никто не знал. Какова была его семейная жизнь – тоже не знал никто.
Кончили тем, что даже стали считать его помешанным, хотя при редких столкновениях с обществом он всегда рассуждал очень спокойно и основательно. Он просто ничем не интересовался из того, чем интересовались окружавшие его люди. Он не принимал участия в общей жизни.
Многочисленная прислуга петербургского горбатовского дома знала, что барин сделался очень странным, что он иногда совсем как живой мертвец, так, что даже с ним страшно встречаться, и особенно страшно, когда он взглянет – глаза словно огненные, а так холодно от них становится, что, кажется, бежал бы от такого взгляда.
Удивляли тоже прислугу и отношения между барином и барыней. Они жили на разных половинах, иной раз не видались по целым дням, а между тем никто и никогда не слыхал между ними ничего, указывавшего на их недовольство друг другом. Напротив того, оставаясь вместе, они всегда беседовали ласково и относились друг к другу с большой предупредительностью, почти даже с нежностью.
С такой же предупредительностью относился Николай Владимирович и к сыну.
Во всяком случае, это была такая странная жизнь, что если она не возбуждала всеобщего любопытства, так единственно потому, что люди ко всему привыкают, а привыкнув, не замечают того, что прежде бросалось в глаза.
Что касается до Марьи Александровны, то, по общим отзывам прислуги (а это значит весьма много), она была совсем святая.
– Да, уж нечего сказать, хорошая барыня, – говорить о ней в людских и кухне, – такую всю жизнь искать – так не найдешь. Никто-то от нее дурного слова не слышал, а добра сколько делает!
– И ведь что удивленья достойно, – замечал старый дворецкий, пользовавшийся всеобщим уважением, – ведь при покойнице, при Катерине Михайловне, совсем она была другая… А это вот с тех самых пор ее и не узнать…
И все отлично понимали, что должно подразумевать под этими словами: «с тех самых пор».
Да, Мари никто бы не узнал теперь. Несмотря на то, что ее молодость уже прошла, она все еще была красивая женщина. Прежней излишней полноты в ней не было заметно, не было заметно также и в лице ничего тусклого, рассеянного. Лицо ее было просто спокойно, а в светлых глазах неизменно читалось выражение доброты и тихой грусти.
Но, несмотря на это грустное выражение, никому и в голову не могло прийти жалеть ее, в ней не было ничего говорящего о несчастье, напротив, она была всегда бодра, спокойна и энергична.
Она наполнила свою жизнь сознательной деятельностью, работала неустанно на пользу ближнего и, принимая участие в каком-нибудь благотворительном учреждении, давала ему не только свое имя и денежные средства, а давала свою действительную работу. И теперь в этот тихий, приунывший московский дом она внесла с собою присущую ей атмосферу спокойствия и бодрости.
Михаил Иванович Бородин, тоже приехавший, остановился не в доме, а в гостинице. Теперь в Москве у него уже не было близких людей. За эти годы ему пришлось похоронить их всех. Умерли старики Бородины почти одновременно; умерла, еще прежде них, Капитолина Ивановна. После смерти отца и матери Михаил Иванович перевез жену и детей в Петербург и прекратил свои поездки в Москву.
И в нем произошла своего рода большая перемена: в его волосах тоже серебрилась седина, на его красивом лбу и вокруг темных полузакрытых глаз насчитывалось немало морщинок. Но он был крепок и бодр. Глядя на него, невольно всякий должен был сказать: вот человек, стоящий твердо, знающий себе цену и довольный жизнью.
Он стоял твердо. Его лучшая мечта осуществилась… Он в настоящее время занимал видное положение на службе, но еще большее у него было значенье в финансовом мире. Михаил Иванович стал теперь силой, перед которой преклонялись многие и с которой приходилось считаться. Все его финансовые предприятия оказывались удачными. Его богатство росло с каждым годом, его уже иначе не называли, как миллионером.
Борис Сергеевич умер в сознании, простясь со всеми, благословив всех, умер как праведник, выражаясь словами осиротевшего и неутешного Степана.
Когда завещание было вскрыто, оказалось, что все свое состояние, заключавшееся в недвижимой собственности, родовых имениях, он поровну оставил двум племянникам, Сергею и Николаю.
Кроме недвижимой собственности у Бориса Сергеевича был большой капитал, хотя далеко и не такой, как многие думали. Старик, живший всегда сравнительно скромно, тем не менее тратил в эти последние пятнадцать лет огромные деньги. Сергей Владимирович знал кое-что об этом, а еще больше знали его кредиторы. Знал тоже кое-что и Михаил Иванович Бородин, постоянно возраставшее состояние которого имело своим главным основанием и постоянной поддержкой деньги Бориса Сергеевича.
Старик оставил после себя два с половиной миллиона деньгами. Пятьсот тысяч переходили по завещанию не к прямым наследникам, а к разным лицам; в том числе полтораста тысяч рублей получила Клавдия Николаевна, пятьдесят тысяч – Груня, пятьдесят тысяч – Прыгунов, бывший в последние годы самым близким человеком Бориса Сергеевича, тридцать тысяч – Степан.
Всех лиц, о которых вспомнил умиравший, насчитывалось до ста.
Два же миллиона были поровну разделены между детьми Сергея Владимировича.
Тело Бориса Сергеевича в сопровождении всех родных и Бородина было перевезено в Горбатовское и похоронено в родовом склепе.
Затем все вернулись в Москву для исполнения необходимых формальностей…
IX. Бывшие друзья
Сентябрь уже перешел за половину, а погода не портилась. Стояли чудесные дни, и только быстро осыпавшиеся листья напоминали о том, что пришла настоящая осень.
Кондрат Кузьмич, несмотря на старость, ни в чем не изменивший свои привычки, посещал аккуратно все церковные службы и почти ежедневно отправлялся на Басманную, где у него, по случаю смерти Бориса Сергеевича, еще было много дела. Таким образом Груня почти целые дни оставалась одна дома.
Уже шестой день как она приехала, а между тем всего один раз вышла прогуляться на бульвар, да и то скоро вернулась. Ее никуда не тянуло, она не хотела разыскивать своих прежних знакомых и приятельниц, не зная, как ее встретят после стольких лет ее скитальческой жизни.
Она почти все время проводила в садике, в старой беседке, иногда с какой-нибудь книгой из библиотеки Кондрата Кузьмича, а чаще всего так, сложа руки, отдаваясь не то раздумью, не то просто лени. Да, лени: физическая лень ее одолела, всегда энергичную, живую и подвижную. Она будто теперь только почувствовала за все эти годы усталость – и отдыхала.
Нельзя сказать, чтобы она чувствовала себя несчастной, чтобы она особенно грустила. Конечно, ей не было весело, но было спокойно, тихо. Она жила эти дни чисто растительной жизнью, по целым часам могла оставаться неподвижной в старом кресле Кондрата Кузьмича, разглядывая каждый кустик, каждый еще не увядший цветок астр в маленькой клумбочке перед беседкой, прислушиваясь к чириканью воробьев, кудахтанью кур, доносившемуся со двора, к дальнему благовесту, следя за движением облаков…
Это было такое затишье, какого она до сих пор никогда не переживала, но затишье перед чем – она об этом не думала или, вернее, боялась думать…
И вот на шестой день пребывания своего в домике Прыгунова сидела она после скромного завтрака, поданного ей Настасьюшкой, в беседке, сидела, отогнав от себя подступившую было мысль о том, что надо же наконец очнуться, остановиться на каком-нибудь решении, сделать какие-нибудь необходимые шаги, приняться за дело, для которого она сюда приехала.
Кондрата Кузьмича не было дома, кругом все тихо, даже не слышно кур, даже воробьи не чирикают, – и вдруг шаги, кто-то сходит с балкончика и направляется к беседке.
Груня взглянула, увидела быстро приближавшуюся мужскую фигуру. Она подумала, что это, пожалуй, приехал повидаться с отцом один из сыновей Кондрата Кузьмича, подумала о том, что очень рада, если это Вася, младший, с которым она даже время от времени переписывалась.
Перед нею молодой человек. Она глядит, но это вовсе не Вася и не Саша. Кто же это? Сердце ее почти перестало биться… Она вгляделась – молодой человек, красивый, с большими голубыми глазами. Он весь в черном, с крепом на руке. Он остановился, его бледные щеки вспыхнули.
– Груня… ты… вы… вы меня не узнаете? – проговорил он.
Она его уже узнала, хотя он был совсем не таким, каким почему-то ей представлялся. Но она не могла не узнать его глаз. Эти глаза остались те же, знакомые, милые глаза, с которыми соединялось все лучшее, хотя и грустное, что было в ее безрадостном детстве…
Это он, он, ее единственный друг, маленький волшебник огромного Знаменского парка, ее рыцарь, герой еще почти неосознанных ею грез, сохраненных ею в себе, несмотря на окружавшую ее так долго житейскую грязь, несмотря на все циничные уроки той злой силы, которую вокруг нее называли практической жизнью, действительностью…