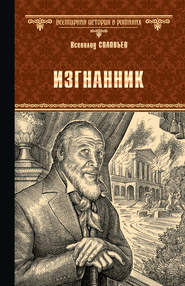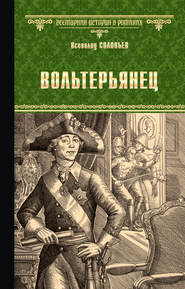По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Княжна Острожская
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А! ты молчишь – значит это правда! – закричала княгиня.
– Правда, если тебе нужно, чтоб это было правдой, если ты способна предположить, что это может быть правдой, – упавшим голосом проговорила Гальшка. Она даже не ужаснулась словам матери – казалось, ничто уже не может поразить ее.
– Оставь эти взгляды, эти ни к чему не ведущие хитрости! Говори мне сейчас: ты имела уговор с Гуркой, ты согласилась на венчание, ты обманула меня? – бешено, даже с каким-то шипеньем спрашивала княгиня.
– Я ничего не скажу тебе, матушка, – я еще вчера все сказала.
– А! ты запираешься! Ну, так знай же: как ни велика твоя хитрость – ты не будешь женой Гурки, ты не уйдешь из рук моих. Я не отдам тебя ему, хотя бы вы двадцать раз были обвенчаны… слышишь – не отдам, хотя бы сам Господь сошел с неба и приказывал мне это… Я отдам тебя за первого встречного, за первого хлопа; но Гурке ты не достанешься… А! тебе мало прежнего позору; ты хочешь на весь мир осрамить род свой, ты хочешь свести меня в могилу! Ты с семнадцати лет стала всем вешаться на шею, заводить любовные истории! Тебе нипочем бегать из дому с каждым нахалом. Позор, позор! Скоро все, во всем свете, будут называть княжну Острожскую блудницей! Да верно уж и называют! Но довольно, довольно… я не допущу тебя больше глумиться надо мною… я задушу тебя своими руками, если ты еще пикнешь, если хоть шаг сделаешь без моего ведома!..
И Беата разразилась истерическими рыданиями.
Гальшка упорно молчала, стараясь не слышать ужасных, безумных слов матери. Она только с отчаянием помышляла о том, что, видно, смерть никогда не сжалится над нею.
Очнувшись и несколько успокоившись, Беата призвала отца Антонио. Ей бы хотелось и его упрекать, и его обвинять в чем-нибудь; но она не посмела этого.
Что теперь делать, что он ей посоветует?
– Мне кажется, Гурко рассчитал верно, – сказал Антонио. – У него при дворе большая сила, ему легко будет убедить короля и выставить все в благоприятном для себя свете. Остается одно – постараться предупредить его – пишите сейчас же королю – я продиктую – и немедленно пошлите гонца в Краков. Нужно будет написать еще некоторым лицам… А покуда я бы посоветовал вам переехать из дома в наш монастырь… Я уже переговорил с Варшевицким и другими… мне обещали деятельную поддержку ордена… Наши отцы и в Кракове могут очень помочь, да и во всяком случае, в монастыре будет безопаснее… Теперь вы видите, что можно ожидать всего, самого невероятного и неожиданного…
Недаром иезуит говорил это. Еще одна мысль, одна надежда мелькнула в нем. Никакие ухищрения не помогли ему совратить Гальшку в латинство, добровольно заставить ее переменить веру и постричься в монахини, а между тем это было его единственной целью. Теперь же уж и невозможно было действовать убеждением – она не позволит ему сказать и слова. Теперь, в случае удачи Гурки, нужно сообща, соединенными усилиями иезуитов, уговорить княгиню допустить пострижение Гальшки…
Пусть насилие, пусть – но цель будет достигнута. Гальшка никому не достанется, а орден получит ее состояние. Только бы уговорить княгиню, которая и до сих пор еще и слышать ничего не хочет об этом, желает самым блестящим образом выдать дочь замуж.
Но, в крайнем случае, можно обойтись и без согласия княгини. У себя, в монастыре, иезуиты сумеют распорядиться. Быть может, даже и сама Гальшка из всех зол, обрушившихся на ее голову, выберет католический монастырь. Не он станет объясняться с нею, он предоставит это другим…
Антонио мучительно задумался о себе и о Гальшке. Какая страшная судьба его преследует! В последние два года какое-то проклятие легло на все его замыслы, на все поступки… Огромная интрига приведена в действие, совершено немало решительных дел, пролито немало крови. Убит Сангушко, отстранен князь Константин, Беата в Вильне – ее состоянием распоряжаются иезуиты. Но к чему повело все это – жизнь Гальшки разбита и еще удивительно, как выносит она свои страдания. Он имеет возможность ежедневно видеться с нею, говорить без помехи. Не было таких приемов, не было такой хитрости, которую бы он не пустил в ход с нею. Не только слабая, измученная и запутанная женщина, а и всякий сильный человек давно подчинился бы его влиянию, давно был бы в руках его. Но ничего не мог он сделать с Гальшкой. Всякое оружие ломается об ее неприступность. И чем тяжелее ее жизнь, чем ужаснее обстоятельства, чем невыносимее испытания, тем крепче и непоколебимее ее православие… За все эти два года он добился только одного: прежде она относилась к нему с равнодушием, теперь он ей страшен и ненавистен – она видит в нем не только своего врага, она видит в нем дьявола.
Вот что он сделал, вот чего он добился со всем своим умом и хитростью…
Так пусть же теперь конец всему – одним разом нужно разрубить этот страшный, замотавшийся узел. Пусть гибнет она, пусть последнее, ужаснейшее насилие совершится над нею: но он все же не отдаст ее жизни, не отдаст ее людям!
X
Недавно возникший, уже совершенно устроенный иезуитский монастырь в Вильне находился вблизи от замка епископа. Костел величественной итальянской архитектуры выходил на обширную площадь. За костелом начинались монастырские строения, расположенные квадратом. Снаружи были видны только высокие, крепкие каменные стены без всяких признаков окон и ворот. Очевидным казалось, что проникнуть в монастырь можно только через ворота костела.
А между тем очень часто отец-иезуит, вышедший утром из монастыря, вечером оказывался в своей келье, и два сторожа, день и ночь стоявшие у входа, могли чистосердечно поклясться, что они его не впускали. Это значило только, что для удобства сообщений и разных предвиденных и непредвиденных обстоятельств, иезуиты устроили подземный ход в монастырь, куда проникать можно было с нескольких пунктов. Ход этот тянулся на значительном расстоянии и доходил до самого речного берега, где заканчивался небольшим отверстием, тщательно скрытым в глухом и никем не посещаемом овраге. Остальные входы находились в домах, принадлежавших иезуитам.
Подземелье имело вид узкого коридора, выложенного камнем, и заключало в себе множество разветвлений. Следы его еще недавно находили в Вильне. В иных местах, где это было удобно и не представляло никакой опасности для сохранения тайны, коридор сообщался с поверхностью земли посредством труб, проводивших в него воздух и слабые проблески света. По временам на всем протяжении подземелья, в стенах попадались железные окованные дверки. Здесь помещались тоже кельи, но обитать в них приходилось, разумеется, не сподвижникам ордена. Здесь висели тяжелые цепи, большая часть которых в то время еще только ожидала несчастных жертв иезуитской таинственной инквизиции. Но все же некоторые из этих страшных подземных темниц уже были оглашены человеческими стонами.
Стоило человеку узнать какую-нибудь тайну ордена или так или иначе показаться опасным виленским отцам – его тотчас же заочно судили и через несколько дней он пропадал бесследно. Выследив его где-нибудь в глухом месте или заманив в монастырь, его схватывали и с завязанными глазами приводили в судилище. Когда снимали с его глаз повязку, он невольно должен был помертветь от ужаса – иезуиты, всегда любившие разные эффекты, постарались сделать из своего судилища какое-то подобие мрачной могилы. Оно помешалось под землею. Сводчатые стены и пол – все было черное. За черным столом сидели судьи, как страшные привидения, скрывая свои лица под масками. Украшение склепа составляли только человеческие черепа да кости. На столе лежали цепи и орудия пытки. И все это озарялось тусклым светом черных восковых свечей, вставленных в железные канделябры.
Угрозами, страхом, разнообразными пытками из человека выжимали все сведения, какие он мог доставить. Ему даже не говорили, в чем его обвиняют, не давали права защищаться. Он должен был только отвечать правдиво на задаваемые ему вопросы. Когда вопросы истощались, железная дверь скрипела на своих петлях; несчастного влекли в подземный коридор, приковывали к стене в душной, маленькой темнице и огромными замками запирали ее дверцу. Он оставался в спертом, удушливом воздухе, среди полнейшей темноты; он мог ощупать только холодные, мокрые стены, мог слышать только звук цепей, которыми был прикован. Его отчаянный вопль и стоны гулко оглашали низкий свод и замирали в мертвом подземелье… Проходили долгие, адские часы, и никто к нему не являлся, не приносил ему питья и пищи. Проходили еще часы, и к его душевным мукам, к его ужасу начинали примешиваться страдания голода и жажды… Тщетно кричал он и звал к себе на помощь – никто не мог услышать его, никто не мог явиться, на его зов, потому что голодная смерть была единогласно присуждена ему на судилище отцов-иезуитов…
И умирал человек в лютых муках, и долго еще его семья и родные ожидали его возвращения и никак не могли понять, куда это он девался. Быть может, кто-нибудь из них проходил над его головою, быть может, в глухую ночь, когда стихали дневной шум и движение, можно было расслышать из глубины земли его тяжкие, предсмертные стоны.
Изредка обезображенный, неузнаваемый труп всплывал на поверхность Вилии. Чаше же несчастных так и забывали в подземных могилах, пока еще оставались свободные цепи – всюду в развалинах иезуитских монастырей, на всей протяжении Литвы, и теперь еще, спустившись в подземелья, можно видеть целые груды человеческих костей, сваленных вместе, и отдельные скелеты под ввинченными в стены тяжелыми цепями…
А над страшным мраком этих коридоров и склепов, где замирали предсмертные стоны и разлагались прикованные трупы, в кельях монахов царила роскошь. Обширный внутренний монастырский двор был превращен в прелестный цветник. Кроме того, здесь были устроены оранжереи и парники, выращивались дорогие растения и всевозможные фрукты.
Таков был монастырь, куда по приглашению отцов-иезуитов переселилась княгиня Беата с Гальшкой и Антонио.
Гонец от княгини уже мчался в Краков, но невозможно было скоро ожидать его возвращения.
Несколько красноречивых монахов, пользовавшихся расположением Беаты, вполне одобрили план Антонио и тотчас же приступили к его исполнению.
Они неустанно, порознь и вместе, старались убедить Беату, что самое лучшее, особенно при настоящих обстоятельствах, и в случае успеха Гурки, посвятить Гальшку Богу. Отдать ее лютеранину Гурке – значит, согласиться на ее верную погибель. Если она сама так молода и неразумна, что не может понять этого, то мать имеет полное право решить за нее, силой принудить принять католичество и постричься. Есть обстоятельства, когда Бог разрешает насильственные действия – совершая их, нужно только постоянно иметь в мыслях ту благую цель, к которой они приводят. Если Гальшка упорно откажется произносить обеты и совершать все, что требуется правилами, то княгиня может это исполнить за нее.
За этими советами следовали потоки самого обольстительного красноречия. Отцы-иезуиты рисовали яркими красками последствия такого доброго дела. Если княгине тяжело отказаться от дочери, от своих материнских надежд видеть ее среди блестящей, светской обстановки – то тем угоднее будет Богу эта великая ее жертва. Пусть она обдумает все хорошенько, вглядится во все обстоятельства; не видимо ли перст Божий указывает ей, что она должна поступить именно так, и что к этому клонится судьба ее дочери?! Другая девушка вырастет, выйдет замуж, и все это совершится естественным порядком. С Гальшкой не то: вот она в короткое время уже два раза обвенчана, а между тем у нее нет мужа. К тому же она, очевидно, не создана для светской жизни – живя в доме матери, окруженная блестящим обществом и толпой поклонников и искателей, она не наслаждается жизнью, а тоскует и вянет. Она сама просится в монастырь… Но в русском схизматическом монастыре она не спасет свою душу. Княгиня как ревностная и благочестивая католичка сама понимает, что обязана привести дочь к истинной церкви… Да и кто знает, какие еще новые испытания судьба готовит Гальшке, если она останется в свете, какое новое горе, быть может, ожидает и княгиню… Сколько ежедневных волнений и опасностей! А в монастыре, благословенная папою, Гальшка успокоится, успокоится на ее счет и княгиня. Неужели так уж дорог этот весь мишурный блеск, успехи при дворе, пороки, искушения и ежеминутная вероятность падения, что нельзя отдать всего этого за жизнь, посвященную только Богу, молитве и святым помыслам. Да и сама княгиня – разве дорожит она светом, разве давно уж не отказалась от него, не отдала своей жизни делам благотворительности и молитве?! Зачем же не хочет она того же и для своей дочери?!
Княгиня Беата вслушивалась в эти речи и сознавала их справедливость. Ведь то же самое давно уж и постоянно твердит ей и Антонио. Но и тогда, и теперь, не возражая, она все же колебалась последовать благочестивым советам. В ее сердце жили иногда самые противоположные чувства, в ее голове гнездились противоречившие друг другу помыслы. Она искренно ненавидела свет и жила почти как монахиня, но в то же время она всякий раз, упорно и невольно, гнала от себя мысль видеть Гальшку в монашеской одежде. Все, о чем во дни молодости она мечтала для себя самой, все свои честолюбивые планы она перенесла на дочь – чудную, изумлявшую всех красавицу… Нет, такая красота рождена не для монашеской кельи. Пред такой красотой должен преклониться свет, она должна принести честь и славу всему их роду. Гальшка не может, не может ограничиться глухой, будничной долей! Что бы то ни случилось в прошлом – все это пройдет, пройдет; и в конце концов красавица Гальшка очутится наверху земной славы и земного величия… Так еще недавно думала и чувствовала княгиня – и нелегко было ей расстаться с этими мыслями.
Но последние обстоятельства, неожиданные и ужасные, довели ее до высшей степени раздражения. Она перестала мечтать о будущем Гальшки. Теперь в ней была только ненависть к дочери и Гурке. Дойдя до убеждения, что дочь сама устроила все дело, чтобы причинить ей горе, она поклялась обуздать ее и показать ей свою силу… Но ненавистнее всех и всего был для нее Гурко. При одной мысли о нем она доходила до бешенства и клялась, что несмотря ни на какие приказы королевские, он никогда не увидит Гальшки…
Во время одного из разговоров с отцом Антонио она сказала ему:
– Вот уж и время было бы возвратиться гонцу нашему, а его все нет… Боюсь, что дела плохи… Теперь пора действовать…
– Давно пора действовать, – ответил Антонио. – Здешние отцы только и ждут вашего разрешения – скажите слово – и завтра княжна будет монахиней. Вы немедленно отправите ее в Италию с надежными друзьями нашего ордена, я сам, наконец, берусь сопровождать ее. Тогда вам останется только устроить здесь свои денежные дела так, как уже было условлено между нами, и мы будет ожидать вас в Риме… Пора, пора, княгиня, – для всех нас должна начаться новая жизнь…
Беата заволновалась – в последнее время она не могла говорить спокойно и благоразумно.
– Нет, отец мой, нет – мы могли так мечтать и строить планы… Но теперь нечего и думать исполнять их… Пустить Гальшку в монастырь! Я думаю, она будет рада этому – она знает, что не к тому я ее предназначала… В монастырь! – для чего? Для того, чтоб обмануть Бога?! Мы два года бились с нею, всячески ее убеждали; но ведь вы знаете теперь, понимаете, что никогда она не будет католичкой… И потом, и потом – разве вы не видели ее в последнее время – ведь теперь она помышляет только об одном, чтоб от меня избавиться… Я теперь знаю, до чего она хитра – она, пожалуй, для виду, и примет католичество, и пострижется, а потом найдет способ убежать из монастыря к своим защитникам, к тому же Гурке… И будет кричать о насилии, и вооружит всех против нас… и доведет меня до могилы…
Антонио только пожал плечами. Он не мог считать Гальшку способной на все это. Он знал, что вольно или невольно попав в монастырь, она уже не уйдет оттуда…
Княгиня продолжала, волнуясь все больше и больше:
– Нет, мне теперь дела нет никакого до моей дочери… Я забываю о ней, она сделала все, чтоб уничтожить во мне материнские чувства. Мне теперь дело только до Гурки, я докажу ему, что безнаказанно нельзя глумиться надо мною! Я и королю скажу, с кем он имеет дело! А! Они увидят, что и я способна быть решительной, когда надо!
Она остановилась, сверкая глазами и задыхаясь. Антонио понял, что в голове ее внезапно созрел какой-то безумный план.
– Что вы еще задумываете? – усталым голосом спросил он.
– Что я задумываю?! – я задумываю такое, чего они никак не ожидают! Я буду их бить их же оружием… Пускай Гурко теперь является сюда с приказом короля за своей законной женой! Он не найдет здесь графини Гурко – Гальшка уж будет тоже законной женой другого.
Антонио взглянул на Беату как на сумасшедшую – этого даже от нее не мог ожидать он.
Но она жадно ухватилась за свою внезапную, сумасбродную мысль и с каждою секундою находила ее все более и более целесообразной. Она чувствовала какое-то наслаждение в сознании, что всех поразит своим поступком, запутает дело до невозможности… Что ж Гальшка?! Пусть пропадет теперь Гальшка, лишь бы ее враги растерзали друг друга.
– Да! – быстро заговорила она, – я знаю человека, который будет здесь по первому моему знаку и обвенчается с Гальшкой – ведь ей, видно, так уж суждено всю жизнь венчаться! Это – Олелькович-Слуцкий. Он православный… пусть… ничего… но у него знаменитое имя, богатство, родство с нами – он все же лучший муж, чем этот Гурко… Да я этим поступком заставлю лютого врага моего, князя Константина, способствовать моим целям, он станет хлопотать за Слуцкого… Они все там перегрызутся, как собаки… Слуцкий обожает Гальшку и ненавидит Гурку… Я знаю, чем бы ни кончилось у них там в Кракове, что бы ни постановили сенат и король – Гурко не увидит Гальшки. Если решат дело в пользу Слуцкого – Гурко должен будет замолчать и всю жизнь не забудет, что значит оскорбить Беату Острожскую. Если он добьется своего, и ему велят отдать Гальшку, то прежде, чем он ее увидит, Слуцкий уж убьет его – я знаю Слуцкого, он не отдаст Гальшки…
– Княгиня, да ведь это безумство! – вскричал Антонио. – Вы только погубите княжну и ничего не достигнете.
Он даже испугался. Он видел, что Беата теперь не способна ничего понимать. Уже не в первый раз, дойдя до такого состояния, она во что бы то ни стало приводила в исполнение первую безумную мысль, приходившую ей в голову. Отговаривать ее, убеждать – значило только подливать масла в огонь. Бывали минуты, когда для нее не существовало ничьего авторитета, ничьего влияния. Она не терпела тогда постороннего вмешательства и, несмотря на всю близость к отцу Антонио, вдруг доказывала ему, что он далеко не всецело завладел ее душою. Какой-то упорный бес сидел в этой женщине и мутил иногда ей разум.
Антонио замолчал. Он знал, что покуда они в монастыре, иезуиты не допустят ее до сумасбродного плана. Но ведь нельзя было силой удержать ее в монастыре, если она пожелает вернуться в свой дом. Княгиня Беата Острожская не могла пропасть в иезуитских подземельях. Это значило бы чересчур уж рисковать и приготовить ордену много неприятностей и бедствий. Но и это бы еще ничего – изобретательность и хитрость иезуитов, пожалуй бы, победили все улики и подозрения, сумели бы тщательно и безопасно для себя скрыть новую свою тайну. Княгиня Беата не могла бесследно исчезнуть по иным соображениям. Большая часть ее состояния, равно как и состояние Гальшки, были еще в ее руках. С ее исчезновением орден должен был бы упустить это богатство – а оно всецело предназначалось в его собственность.
– Да, делать нечего – придется обойтись без Беаты.
– Правда, если тебе нужно, чтоб это было правдой, если ты способна предположить, что это может быть правдой, – упавшим голосом проговорила Гальшка. Она даже не ужаснулась словам матери – казалось, ничто уже не может поразить ее.
– Оставь эти взгляды, эти ни к чему не ведущие хитрости! Говори мне сейчас: ты имела уговор с Гуркой, ты согласилась на венчание, ты обманула меня? – бешено, даже с каким-то шипеньем спрашивала княгиня.
– Я ничего не скажу тебе, матушка, – я еще вчера все сказала.
– А! ты запираешься! Ну, так знай же: как ни велика твоя хитрость – ты не будешь женой Гурки, ты не уйдешь из рук моих. Я не отдам тебя ему, хотя бы вы двадцать раз были обвенчаны… слышишь – не отдам, хотя бы сам Господь сошел с неба и приказывал мне это… Я отдам тебя за первого встречного, за первого хлопа; но Гурке ты не достанешься… А! тебе мало прежнего позору; ты хочешь на весь мир осрамить род свой, ты хочешь свести меня в могилу! Ты с семнадцати лет стала всем вешаться на шею, заводить любовные истории! Тебе нипочем бегать из дому с каждым нахалом. Позор, позор! Скоро все, во всем свете, будут называть княжну Острожскую блудницей! Да верно уж и называют! Но довольно, довольно… я не допущу тебя больше глумиться надо мною… я задушу тебя своими руками, если ты еще пикнешь, если хоть шаг сделаешь без моего ведома!..
И Беата разразилась истерическими рыданиями.
Гальшка упорно молчала, стараясь не слышать ужасных, безумных слов матери. Она только с отчаянием помышляла о том, что, видно, смерть никогда не сжалится над нею.
Очнувшись и несколько успокоившись, Беата призвала отца Антонио. Ей бы хотелось и его упрекать, и его обвинять в чем-нибудь; но она не посмела этого.
Что теперь делать, что он ей посоветует?
– Мне кажется, Гурко рассчитал верно, – сказал Антонио. – У него при дворе большая сила, ему легко будет убедить короля и выставить все в благоприятном для себя свете. Остается одно – постараться предупредить его – пишите сейчас же королю – я продиктую – и немедленно пошлите гонца в Краков. Нужно будет написать еще некоторым лицам… А покуда я бы посоветовал вам переехать из дома в наш монастырь… Я уже переговорил с Варшевицким и другими… мне обещали деятельную поддержку ордена… Наши отцы и в Кракове могут очень помочь, да и во всяком случае, в монастыре будет безопаснее… Теперь вы видите, что можно ожидать всего, самого невероятного и неожиданного…
Недаром иезуит говорил это. Еще одна мысль, одна надежда мелькнула в нем. Никакие ухищрения не помогли ему совратить Гальшку в латинство, добровольно заставить ее переменить веру и постричься в монахини, а между тем это было его единственной целью. Теперь же уж и невозможно было действовать убеждением – она не позволит ему сказать и слова. Теперь, в случае удачи Гурки, нужно сообща, соединенными усилиями иезуитов, уговорить княгиню допустить пострижение Гальшки…
Пусть насилие, пусть – но цель будет достигнута. Гальшка никому не достанется, а орден получит ее состояние. Только бы уговорить княгиню, которая и до сих пор еще и слышать ничего не хочет об этом, желает самым блестящим образом выдать дочь замуж.
Но, в крайнем случае, можно обойтись и без согласия княгини. У себя, в монастыре, иезуиты сумеют распорядиться. Быть может, даже и сама Гальшка из всех зол, обрушившихся на ее голову, выберет католический монастырь. Не он станет объясняться с нею, он предоставит это другим…
Антонио мучительно задумался о себе и о Гальшке. Какая страшная судьба его преследует! В последние два года какое-то проклятие легло на все его замыслы, на все поступки… Огромная интрига приведена в действие, совершено немало решительных дел, пролито немало крови. Убит Сангушко, отстранен князь Константин, Беата в Вильне – ее состоянием распоряжаются иезуиты. Но к чему повело все это – жизнь Гальшки разбита и еще удивительно, как выносит она свои страдания. Он имеет возможность ежедневно видеться с нею, говорить без помехи. Не было таких приемов, не было такой хитрости, которую бы он не пустил в ход с нею. Не только слабая, измученная и запутанная женщина, а и всякий сильный человек давно подчинился бы его влиянию, давно был бы в руках его. Но ничего не мог он сделать с Гальшкой. Всякое оружие ломается об ее неприступность. И чем тяжелее ее жизнь, чем ужаснее обстоятельства, чем невыносимее испытания, тем крепче и непоколебимее ее православие… За все эти два года он добился только одного: прежде она относилась к нему с равнодушием, теперь он ей страшен и ненавистен – она видит в нем не только своего врага, она видит в нем дьявола.
Вот что он сделал, вот чего он добился со всем своим умом и хитростью…
Так пусть же теперь конец всему – одним разом нужно разрубить этот страшный, замотавшийся узел. Пусть гибнет она, пусть последнее, ужаснейшее насилие совершится над нею: но он все же не отдаст ее жизни, не отдаст ее людям!
X
Недавно возникший, уже совершенно устроенный иезуитский монастырь в Вильне находился вблизи от замка епископа. Костел величественной итальянской архитектуры выходил на обширную площадь. За костелом начинались монастырские строения, расположенные квадратом. Снаружи были видны только высокие, крепкие каменные стены без всяких признаков окон и ворот. Очевидным казалось, что проникнуть в монастырь можно только через ворота костела.
А между тем очень часто отец-иезуит, вышедший утром из монастыря, вечером оказывался в своей келье, и два сторожа, день и ночь стоявшие у входа, могли чистосердечно поклясться, что они его не впускали. Это значило только, что для удобства сообщений и разных предвиденных и непредвиденных обстоятельств, иезуиты устроили подземный ход в монастырь, куда проникать можно было с нескольких пунктов. Ход этот тянулся на значительном расстоянии и доходил до самого речного берега, где заканчивался небольшим отверстием, тщательно скрытым в глухом и никем не посещаемом овраге. Остальные входы находились в домах, принадлежавших иезуитам.
Подземелье имело вид узкого коридора, выложенного камнем, и заключало в себе множество разветвлений. Следы его еще недавно находили в Вильне. В иных местах, где это было удобно и не представляло никакой опасности для сохранения тайны, коридор сообщался с поверхностью земли посредством труб, проводивших в него воздух и слабые проблески света. По временам на всем протяжении подземелья, в стенах попадались железные окованные дверки. Здесь помещались тоже кельи, но обитать в них приходилось, разумеется, не сподвижникам ордена. Здесь висели тяжелые цепи, большая часть которых в то время еще только ожидала несчастных жертв иезуитской таинственной инквизиции. Но все же некоторые из этих страшных подземных темниц уже были оглашены человеческими стонами.
Стоило человеку узнать какую-нибудь тайну ордена или так или иначе показаться опасным виленским отцам – его тотчас же заочно судили и через несколько дней он пропадал бесследно. Выследив его где-нибудь в глухом месте или заманив в монастырь, его схватывали и с завязанными глазами приводили в судилище. Когда снимали с его глаз повязку, он невольно должен был помертветь от ужаса – иезуиты, всегда любившие разные эффекты, постарались сделать из своего судилища какое-то подобие мрачной могилы. Оно помешалось под землею. Сводчатые стены и пол – все было черное. За черным столом сидели судьи, как страшные привидения, скрывая свои лица под масками. Украшение склепа составляли только человеческие черепа да кости. На столе лежали цепи и орудия пытки. И все это озарялось тусклым светом черных восковых свечей, вставленных в железные канделябры.
Угрозами, страхом, разнообразными пытками из человека выжимали все сведения, какие он мог доставить. Ему даже не говорили, в чем его обвиняют, не давали права защищаться. Он должен был только отвечать правдиво на задаваемые ему вопросы. Когда вопросы истощались, железная дверь скрипела на своих петлях; несчастного влекли в подземный коридор, приковывали к стене в душной, маленькой темнице и огромными замками запирали ее дверцу. Он оставался в спертом, удушливом воздухе, среди полнейшей темноты; он мог ощупать только холодные, мокрые стены, мог слышать только звук цепей, которыми был прикован. Его отчаянный вопль и стоны гулко оглашали низкий свод и замирали в мертвом подземелье… Проходили долгие, адские часы, и никто к нему не являлся, не приносил ему питья и пищи. Проходили еще часы, и к его душевным мукам, к его ужасу начинали примешиваться страдания голода и жажды… Тщетно кричал он и звал к себе на помощь – никто не мог услышать его, никто не мог явиться, на его зов, потому что голодная смерть была единогласно присуждена ему на судилище отцов-иезуитов…
И умирал человек в лютых муках, и долго еще его семья и родные ожидали его возвращения и никак не могли понять, куда это он девался. Быть может, кто-нибудь из них проходил над его головою, быть может, в глухую ночь, когда стихали дневной шум и движение, можно было расслышать из глубины земли его тяжкие, предсмертные стоны.
Изредка обезображенный, неузнаваемый труп всплывал на поверхность Вилии. Чаше же несчастных так и забывали в подземных могилах, пока еще оставались свободные цепи – всюду в развалинах иезуитских монастырей, на всей протяжении Литвы, и теперь еще, спустившись в подземелья, можно видеть целые груды человеческих костей, сваленных вместе, и отдельные скелеты под ввинченными в стены тяжелыми цепями…
А над страшным мраком этих коридоров и склепов, где замирали предсмертные стоны и разлагались прикованные трупы, в кельях монахов царила роскошь. Обширный внутренний монастырский двор был превращен в прелестный цветник. Кроме того, здесь были устроены оранжереи и парники, выращивались дорогие растения и всевозможные фрукты.
Таков был монастырь, куда по приглашению отцов-иезуитов переселилась княгиня Беата с Гальшкой и Антонио.
Гонец от княгини уже мчался в Краков, но невозможно было скоро ожидать его возвращения.
Несколько красноречивых монахов, пользовавшихся расположением Беаты, вполне одобрили план Антонио и тотчас же приступили к его исполнению.
Они неустанно, порознь и вместе, старались убедить Беату, что самое лучшее, особенно при настоящих обстоятельствах, и в случае успеха Гурки, посвятить Гальшку Богу. Отдать ее лютеранину Гурке – значит, согласиться на ее верную погибель. Если она сама так молода и неразумна, что не может понять этого, то мать имеет полное право решить за нее, силой принудить принять католичество и постричься. Есть обстоятельства, когда Бог разрешает насильственные действия – совершая их, нужно только постоянно иметь в мыслях ту благую цель, к которой они приводят. Если Гальшка упорно откажется произносить обеты и совершать все, что требуется правилами, то княгиня может это исполнить за нее.
За этими советами следовали потоки самого обольстительного красноречия. Отцы-иезуиты рисовали яркими красками последствия такого доброго дела. Если княгине тяжело отказаться от дочери, от своих материнских надежд видеть ее среди блестящей, светской обстановки – то тем угоднее будет Богу эта великая ее жертва. Пусть она обдумает все хорошенько, вглядится во все обстоятельства; не видимо ли перст Божий указывает ей, что она должна поступить именно так, и что к этому клонится судьба ее дочери?! Другая девушка вырастет, выйдет замуж, и все это совершится естественным порядком. С Гальшкой не то: вот она в короткое время уже два раза обвенчана, а между тем у нее нет мужа. К тому же она, очевидно, не создана для светской жизни – живя в доме матери, окруженная блестящим обществом и толпой поклонников и искателей, она не наслаждается жизнью, а тоскует и вянет. Она сама просится в монастырь… Но в русском схизматическом монастыре она не спасет свою душу. Княгиня как ревностная и благочестивая католичка сама понимает, что обязана привести дочь к истинной церкви… Да и кто знает, какие еще новые испытания судьба готовит Гальшке, если она останется в свете, какое новое горе, быть может, ожидает и княгиню… Сколько ежедневных волнений и опасностей! А в монастыре, благословенная папою, Гальшка успокоится, успокоится на ее счет и княгиня. Неужели так уж дорог этот весь мишурный блеск, успехи при дворе, пороки, искушения и ежеминутная вероятность падения, что нельзя отдать всего этого за жизнь, посвященную только Богу, молитве и святым помыслам. Да и сама княгиня – разве дорожит она светом, разве давно уж не отказалась от него, не отдала своей жизни делам благотворительности и молитве?! Зачем же не хочет она того же и для своей дочери?!
Княгиня Беата вслушивалась в эти речи и сознавала их справедливость. Ведь то же самое давно уж и постоянно твердит ей и Антонио. Но и тогда, и теперь, не возражая, она все же колебалась последовать благочестивым советам. В ее сердце жили иногда самые противоположные чувства, в ее голове гнездились противоречившие друг другу помыслы. Она искренно ненавидела свет и жила почти как монахиня, но в то же время она всякий раз, упорно и невольно, гнала от себя мысль видеть Гальшку в монашеской одежде. Все, о чем во дни молодости она мечтала для себя самой, все свои честолюбивые планы она перенесла на дочь – чудную, изумлявшую всех красавицу… Нет, такая красота рождена не для монашеской кельи. Пред такой красотой должен преклониться свет, она должна принести честь и славу всему их роду. Гальшка не может, не может ограничиться глухой, будничной долей! Что бы то ни случилось в прошлом – все это пройдет, пройдет; и в конце концов красавица Гальшка очутится наверху земной славы и земного величия… Так еще недавно думала и чувствовала княгиня – и нелегко было ей расстаться с этими мыслями.
Но последние обстоятельства, неожиданные и ужасные, довели ее до высшей степени раздражения. Она перестала мечтать о будущем Гальшки. Теперь в ней была только ненависть к дочери и Гурке. Дойдя до убеждения, что дочь сама устроила все дело, чтобы причинить ей горе, она поклялась обуздать ее и показать ей свою силу… Но ненавистнее всех и всего был для нее Гурко. При одной мысли о нем она доходила до бешенства и клялась, что несмотря ни на какие приказы королевские, он никогда не увидит Гальшки…
Во время одного из разговоров с отцом Антонио она сказала ему:
– Вот уж и время было бы возвратиться гонцу нашему, а его все нет… Боюсь, что дела плохи… Теперь пора действовать…
– Давно пора действовать, – ответил Антонио. – Здешние отцы только и ждут вашего разрешения – скажите слово – и завтра княжна будет монахиней. Вы немедленно отправите ее в Италию с надежными друзьями нашего ордена, я сам, наконец, берусь сопровождать ее. Тогда вам останется только устроить здесь свои денежные дела так, как уже было условлено между нами, и мы будет ожидать вас в Риме… Пора, пора, княгиня, – для всех нас должна начаться новая жизнь…
Беата заволновалась – в последнее время она не могла говорить спокойно и благоразумно.
– Нет, отец мой, нет – мы могли так мечтать и строить планы… Но теперь нечего и думать исполнять их… Пустить Гальшку в монастырь! Я думаю, она будет рада этому – она знает, что не к тому я ее предназначала… В монастырь! – для чего? Для того, чтоб обмануть Бога?! Мы два года бились с нею, всячески ее убеждали; но ведь вы знаете теперь, понимаете, что никогда она не будет католичкой… И потом, и потом – разве вы не видели ее в последнее время – ведь теперь она помышляет только об одном, чтоб от меня избавиться… Я теперь знаю, до чего она хитра – она, пожалуй, для виду, и примет католичество, и пострижется, а потом найдет способ убежать из монастыря к своим защитникам, к тому же Гурке… И будет кричать о насилии, и вооружит всех против нас… и доведет меня до могилы…
Антонио только пожал плечами. Он не мог считать Гальшку способной на все это. Он знал, что вольно или невольно попав в монастырь, она уже не уйдет оттуда…
Княгиня продолжала, волнуясь все больше и больше:
– Нет, мне теперь дела нет никакого до моей дочери… Я забываю о ней, она сделала все, чтоб уничтожить во мне материнские чувства. Мне теперь дело только до Гурки, я докажу ему, что безнаказанно нельзя глумиться надо мною! Я и королю скажу, с кем он имеет дело! А! Они увидят, что и я способна быть решительной, когда надо!
Она остановилась, сверкая глазами и задыхаясь. Антонио понял, что в голове ее внезапно созрел какой-то безумный план.
– Что вы еще задумываете? – усталым голосом спросил он.
– Что я задумываю?! – я задумываю такое, чего они никак не ожидают! Я буду их бить их же оружием… Пускай Гурко теперь является сюда с приказом короля за своей законной женой! Он не найдет здесь графини Гурко – Гальшка уж будет тоже законной женой другого.
Антонио взглянул на Беату как на сумасшедшую – этого даже от нее не мог ожидать он.
Но она жадно ухватилась за свою внезапную, сумасбродную мысль и с каждою секундою находила ее все более и более целесообразной. Она чувствовала какое-то наслаждение в сознании, что всех поразит своим поступком, запутает дело до невозможности… Что ж Гальшка?! Пусть пропадет теперь Гальшка, лишь бы ее враги растерзали друг друга.
– Да! – быстро заговорила она, – я знаю человека, который будет здесь по первому моему знаку и обвенчается с Гальшкой – ведь ей, видно, так уж суждено всю жизнь венчаться! Это – Олелькович-Слуцкий. Он православный… пусть… ничего… но у него знаменитое имя, богатство, родство с нами – он все же лучший муж, чем этот Гурко… Да я этим поступком заставлю лютого врага моего, князя Константина, способствовать моим целям, он станет хлопотать за Слуцкого… Они все там перегрызутся, как собаки… Слуцкий обожает Гальшку и ненавидит Гурку… Я знаю, чем бы ни кончилось у них там в Кракове, что бы ни постановили сенат и король – Гурко не увидит Гальшки. Если решат дело в пользу Слуцкого – Гурко должен будет замолчать и всю жизнь не забудет, что значит оскорбить Беату Острожскую. Если он добьется своего, и ему велят отдать Гальшку, то прежде, чем он ее увидит, Слуцкий уж убьет его – я знаю Слуцкого, он не отдаст Гальшки…
– Княгиня, да ведь это безумство! – вскричал Антонио. – Вы только погубите княжну и ничего не достигнете.
Он даже испугался. Он видел, что Беата теперь не способна ничего понимать. Уже не в первый раз, дойдя до такого состояния, она во что бы то ни стало приводила в исполнение первую безумную мысль, приходившую ей в голову. Отговаривать ее, убеждать – значило только подливать масла в огонь. Бывали минуты, когда для нее не существовало ничьего авторитета, ничьего влияния. Она не терпела тогда постороннего вмешательства и, несмотря на всю близость к отцу Антонио, вдруг доказывала ему, что он далеко не всецело завладел ее душою. Какой-то упорный бес сидел в этой женщине и мутил иногда ей разум.
Антонио замолчал. Он знал, что покуда они в монастыре, иезуиты не допустят ее до сумасбродного плана. Но ведь нельзя было силой удержать ее в монастыре, если она пожелает вернуться в свой дом. Княгиня Беата Острожская не могла пропасть в иезуитских подземельях. Это значило бы чересчур уж рисковать и приготовить ордену много неприятностей и бедствий. Но и это бы еще ничего – изобретательность и хитрость иезуитов, пожалуй бы, победили все улики и подозрения, сумели бы тщательно и безопасно для себя скрыть новую свою тайну. Княгиня Беата не могла бесследно исчезнуть по иным соображениям. Большая часть ее состояния, равно как и состояние Гальшки, были еще в ее руках. С ее исчезновением орден должен был бы упустить это богатство – а оно всецело предназначалось в его собственность.
– Да, делать нечего – придется обойтись без Беаты.