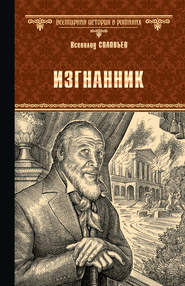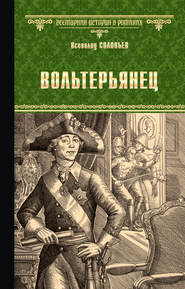По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старый дом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пошел вон, дурак! – закричал он.
Степан нисколько не смутился. Он был в особенном возбуждении и твердая решимость изобразилась на лице его.
– Иду, сударь, иду… Только ежели, не дай Бог, что с Борисом Сергеевичем случится, – так портфель-то этот ведь ваш он…
– Да что ты, скотина, с ума сошел, что ли? – окончательно выходя из себя, крикнул Владимир, схватив Степана за шиворот и вытолкнув из комнаты.
«Вот еще с этим холопом возиться придется, пожалуй! – бешено подумал он. – Этого еще недоставало!.. Да нет… Вздор какой! Что он может?»
Он пошел к себе в спальню, не зайдя к отцу и матери, разделся и тут только, вытянувшись под одеялом, почувствовал всю свою усталость – весь день на ногах… Во дворце… В тревоге… Он потушил свечу, уткнулся в подушку и через минуту заснул самым крепким сном, как человек уставший, но с чистой совестью.
XXIII. Узник
Всю ночь и весь следующий день прошли для Бориса, как в тумане. Он не знал, куда это его привезли, где он находится.
Офицер ввел его в небольшую чистую комнату. В комнате этой было довольно холодно, так как печка, очевидно, давно уже не топилась и от окон очень дуло. Оглядевшись, Борис увидел кровать, простую железную кровать, с твердым матрацем и плоской, как блин, подушкой. Между двумя окнами, шторы которых были спущены, висело небольшое зеркало; на подзеркальном столике горела лампочка. В комнате стоял затхлый запах.
Вошел солдат, принес грубое, но чистое постельное белье, байковое одеяло.
Офицер спросил Бориса, не нужно ли ему чего-нибудь, не голоден ли он?
Борис отрицательно покачал головою.
– В таком случае, – сказал офицер, – я вас оставлю, спите спокойно и не тревожьтесь, нужно надеяться, что все обойдется благополучно.
Он вежливо раскланялся, позвякал шпорами и скрылся. Борис расслышал щелк замка в двери – и понял, что заперт на ключ. Он потушил лампу и, не раздеваясь, бросился на кровать. Ему сделалось вдруг ужасно холодно, он закутался в одеяло, но озноб не проходил. Тогда он встал, ощупью нашел свою шинель и покрылся ею сверх одеяла. Он ни о чем не был в состоянии думать и, наконец, заснул – утомление взяло свое.
Проснулся он поздно. Все было тихо, не доносилось ни одного звука. Бледный свет глядел в окна. Борис поднялся с кровати, чувствуя разбитость во всех членах. Голова была налита, как свинцом. Он подошел к окну, поднял штору; но ровно ничего не увидел: все окно было замазано белой красной снаружи. Мучительное, тоскливое чувство охватило его. Ему вдруг стало как будто даже дышать нечем, ему показалось, что он замуравлен, отделен от всего света.
Если б хоть малейшая щелка, если б хоть одним глазом можно было увидеть, что там, за этим окном, ему стало бы гораздо легче… Но это невозможно. Оба окна без форточек, только наверху одного из них маленькая жестяная трубка. Он влез в окно, снял с этой трубки крышку. Через нее можно будет хоть что-нибудь увидеть… Приложив глаз, он различил только частую сетку, сквозь которую опять-таки ничего нельзя было разглядеть. Только слабая струя морозного воздуха прорывалась через это отверстие.
Тогда он безнадежно спустился с окна, подошел к двери, попробовал – она на запоре. Но вот дверная ручка зашевелилась, замок щелкнул – вошел солдат. Это был небольшого роста, но крепкий и коренастый солдатик с добродушным, придурковатым лицом, с маленькими ежесекундно мигавшими глазками, с усами, стоящими щетиной. Солдатик вошел с глиняным кувшином и чашкой для умывания. Под мышкой у него было полотенце с завернутым в него куском мыла.
– Ваше с-кородие, дай-ко-с я тебе умыться подам! – добрым голосом сказал он. – Видно, заспался маленько, я прислушивался – тихо. Вот, помойся, ваше с-кородие, а потом я и чайку принесу…
Этот солдатик с мигающими глазами, с глупым лицом и добрым голосом произвел на Бориса неожиданное и сильное впечатление. Он его сразу полюбил, будто старого друга. Он видел, что солдатик к нему относится хотя и с большим недоумением, но как-то жалостливо, как-то осторожно. Этот солдатик вывел его из того ужасного ощущения одиночества и отдаленности от всего мира, которое за минуту перед тем его томило.
– Скажи мне, любезный, где я? Что это за дом? – спросил он, снимая сюртук и засучивая рукава для того, чтобы умыться.
Солдатик еще сильнее замигал глазами и замотал головою.
– Ах, ваше с-кородие, да уж и не спрашивайте: чего нельзя, так нельзя, разговоров таких не полагается… А вот помыться и чайку – это я вам подам, это со всем моим удовольствием!
Борис умылся, почти машинально выпил принесенный чай и съел большую булку. Солдатик ушел; замок щелкнул. Опять на запоре, опять разъединен с целым миром!.. И опять туман стал наплывать на него, ни о чем не думалось, одолевала слабость, почти дурнота…
Замок щелкал, солдатик приходил и уходил. Он затопил печку, в комнате стало несколько теплее. Борис опять лег на постель и лежал в полузабытье, иногда почти засыпал. Ему грезилось то то, то другое, наплывали сновидения, иногда совсем яркие, почти такие же яркие, как действительность. Но они то и дело прерывались, перепутывались без всякой связи между собою… И в этом полусне, в этом забытье проходили часы. Содатик принес обед, и Борис встал и ел, но совсем не замечал, что такое ест.
Вот в комнате начало темнеть, вот и совсем стемнело. У двери зазвенели шпоры, появился вчерашний офицер, пригласил Бориса одеться и за ним следовать. Борис машинально повиновался. И опять, как вчера, в сопровождении офицера и двух солдат он прошел длинным коридором, опустился по лестнице и сел в карету. Карета тронулась. Было очень холодно, каретные стекла совсем заледенели, но Борис изо всех сил стал тереть стекло. Офицер на него покосился.
– Что вы делаете?
– Я хочу хоть что-нибудь увидеть! Неужели это невозможно?
Офицер ничего не ответил. Борис продолжал тереть стекло. Наконец он стал, хоть и неясно, различать внешние предметы. На улицах уже зажжены фонари, езда и движение. Но он долго не мог понять, где они едут. Мало-помалу ему удалось все же сообразить. Карета спустилась к Неве и покатилась по ледяному, засыпанному снегом пространству.
«В крепость!.. Конечно!» – мелькнуло в голове Бориса.
Но эта мысль не наполняла его ужасом, на него напало теперь полное равнодушие. Предположение его оказалось справедливым – они подъезжали к Петропавловской крепости. Карета остановилась. Офицер предложил Борису выйти. Солдаты поместились по обеим его сторонам, его ввели в ворота. Он хорошо знал расположение крепости и увидел, что его ведут к комендантскому дому… Так и есть!.. И опять туман, туман наплывает… Он не замечает окружающего… Он очнулся только тогда, когда почти над самым его ухом раздался довольно резкий голос. Он вздрогнул и огляделся.
Он в большой комнате, освещенной двумя сальными нагоревшими свечками. Перед ним человек в военном мундире с деревянной ногой. Он узнал его, потому что уже с ним встречался: этот безногий ветеран – комендант Петропавловской крепости, Сукин. Когда Борис встречался с этим ветераном, которого потеря ноги заставляла гораздо меньше страдать, чем звук его фамильного прозвища, он всегда невольно казался ему довольно смешным и ничтожным.
Борис вспомнил, как он еще не очень давно приезжал к его отцу с какой-то просьбой и Борису пришлось его принять, так как Сергей Борисович был чем-то занят и не мог тотчас выйти. Тогда комендант Сукин старался во всем своем обращении выказать изысканную любезность и светскость, что ему очень плохо удавалось.
Он был невольно поражен царственным великолепием старого дома Горбатовых, и вся эта обстановка, говорившая об историческом прошлом владельцев и их громадном богатстве, действовала на старого воина, как нечто для него совсем чужое, недостижимое и обаятельное. Он чувствовал себя среди этой обстановки, со своей деревяшкой и грудью, украшенной знаками отличия, довольно ничтожным перед красивым молодым человеком, который занимал его разговором. Он вдруг, сам того не замечая, стал несколько конфузиться и относиться к этому молодому человеку, как низший к высшему, что можно было сейчас же и заметить в каждом его движении, в каждом его слове. И Борис с большим неудовольствием заметил это…
Теперь этот самый Сукин стоит перед ним с лицом строгим и гордым.
– Кажется, встречал вас? – произнес комендант.
– Да, конечно! – выговорил Борис.
– Очень жаль, не полагал в вас такого легкомыслия, молодой человек!
Голос ветерана сделался совсем резким и строгим.
– Жаль родителей, почтенные люди! Стыдно, молодой человек, очень стыдно!..
Борис вспыхнул.
– Вы еще не знаете, насколько и в чем я виновен, – сказал он, – и ваши обвинения, мне кажется, несколько преждевременны.
– Увидим, очень бы желал! Но теперь, по высочайшему повелению, я обязан принять вас и препроводить в каземат.
– Я это вижу и понимаю.
Комендант сказал несколько слов сопровождавшему арестованному офицеру. Тот вышел и вернулся с плац-адъютантом. Затем Бориса вывели из комендантского дома, провели по двору. Отворилась массивная дверь, пахнуло сыростью, и Борис увидел себя в обширном помещении. Оно было довольно низко, над головою шел каменный свод, каменные стены, каменный пол – все это так холодно, так сыро. В углу большая русская печь. Она топится, по-видимому, мало согревает это большое, пронизанное холодом и сыростью помещение.
Маленькая, но тяжелая дверь заперлась, и Борис опять остался один. Довольно светлая и чистенькая комната, с замазанными краской окнами, из которой его привезли и которая казалась ему такой унылой, такой страшной, теперь представлялась прекрасным потерянным раем в сравнении с этой новой обстановкой. На старом, закопченном и изрезанном деревянном столике горела и заплывала свеча в тяжелом медном шандале, разнося слабый, мерцающий свет, не достигавший до противоположной стены помещения. Борис стал ходить взад и вперед под этим гулким каменным сводом. Он взял свечу и начал с нею все подробно разглядывать. Он увидел, что все это обширное пространство днем освещается только одним крошечным квадратным окошком. Увидел старую, очень подозрительного вида кровать. Заметил плесень и сырость на стенах, где ясно обозначалась высоко идущая полоса – след прошлогоднего наводнения.
Он невольно вздрогнул и попятился: по всем стенам что-то шевелится, копошится, ползает. Вгляделся – стены покрыты тараканами и мокрицами. Он никогда еще не видал этих противных насекомых в таком количестве. Один вид их с детства производил в нем нервную дрожь. И он с омерзением сообразил, что избавиться от них теперь для него и не будет никакой возможности. Он отодвинул кровать от стены, стал ее разглядывать – нашел в ней немало насекомых, разбегавшихся и расползавшихся во все стороны от приближения свечки. В довершение всего, его обоняние было поражено отвратительным запахом. Этот запах шел от деревянного ведра, поставленного почти у самой кровати.
Заскрипела дверь, вошел сторож. Но этот сторож уже производил совсем иное впечатление, чем утренний солдатик. Это было какое-то странное, почти нечеловеческое существо с грязным лицом, с сизым носом, косыми глазами. Седоватые нечесаные волосы торчали во все стороны. Сторож, не обратив на Бориса ни малейшего внимания, взял и затушил свечку, поставил на ее место ночник. Потом принес ворох соломы и швырнул его на голые доски кровати.
«Так вот на чем мне придется спать!» – подумал Борис.
– Послушай, – сказал он сторожу, – возьми, ради Бога, это ведро, ведь от этого запаха стошнить может!
Но сторож ничего не ответил, только покосился, вышел и запер за собою дверь. Борис отодвинул кровать еще больше от стены, разложил солому и как был, в шинели и шапке, лег на эту ужасную кровать. Как он ни крепился, на него напала минута полного отчаяния. Он задыхался, он не мог лежать – вскочил, заломил руки… Крупные слезы показались на глазах его. Но он себя пересилил.