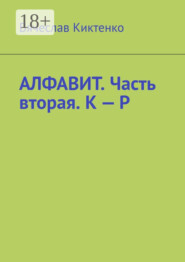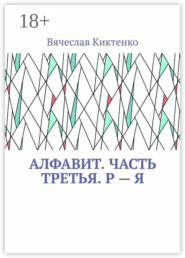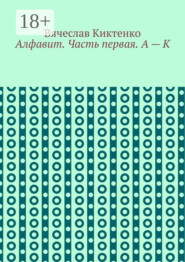По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наваял стишки-отвороты, стишки-отпусты, и – подалее от соблазнов — ушёл в геодезисты. Благо, с детства мотался по изыскательским партиям. Со всей семьёй мотался: вполне терпимой маманей, молчаливой сестрой, ненавистным папулей-геологом. Много чему научился, летними сезонами шастая по жёлтым советским пустыням. Овладел приборами, хорошо зарабатывал. Сколотил состояние, по тогдашним советским меркам немалое – десять тыщ!..
Но все, потным трудом заработанные деньги выудила жена-шалава. Та, что втихаря зачала и родила от бомжа, убедивши Великого в отцовстве. Убедила, змея! Благородный Великий принял. Признал спроста — евонное чадо!
Может, хотел верить. Может, любил. Какое-то время точно любил. — Слепой, глупый, великий Великий… а она, гомоза рыжая, тощая, огромноглазая, кривоногая, злая, странно влекущая, с осиной талией обалденная колдунья, убедила. И – моталась себе по врачам да родственникам. Вообще чёрт знает куда и зачем таскалась. Умеют лярвы подсочинивать. А он платил. Платил и платил. За всё платил…
Но очередной полевой сезон кончился. А с ним и деньги. Как жить-кормиться? Подался на экскаватор – ненавистное, жвачное, чавкающее железной челюстью со вставными зубами чудовище. Пластался вусмерть, домой приходил в робе, заляпанной мазутом, воняющей солярой…
А шалава возьми и заважничай, барынька. Стала Великому в любви отказывать.
Вонь – предлог убедительный. Даже рабочая, честная вонь, приносящая денежку в дом. Мылся Великий тщательно, но уже не очень к тому времени переживал высокомерное «нет». Так уже наянила змеюка, что закрутил романишко на стороне. И даже писал-воспевал, идеализируя-романтизируя совсем простую, милую бабёночку. Душечку без подлых запросов.
Змеюка унюхала. И – айда терроризировать ревностью! Чёрт знает откуда она взялась, ревность, на каких основаниях? Взялась да взялась. А сама такая ко всему распустёха оказалась! Рассказывал, чуть не плача:
«…выходит, красава, из ванной, – висят…
С правой руки сопля, из левой ноздри сопля. Висят, свисают…
Какой, на фиг, секс? С распустёхой-то!..»
Долго терпел Великий, терпел бессловесно… жалостлив был, да и долг свой осознавал. Понимал, как ни странно, вполне традиционно: муж ответственен за семью. И точка. Ну, потом выгнал, конечно. Изгнал змеюку. Когда открылась подмена. Когда разул ребёночек глазки во всю ширь-полноту, а глазки — чужие. Не великие, не вспученные, как у Великого, а узкие-узкие. Точь-в точь, как у южного бомжа. Не стал Великий оформлять развод, купил билет да и отправил вместе с «байстрючонком» к… матери. К родной матери.
***
Нозаписал в тетрадке. Похоже, о себе самом:
«Хороший человек всегда дурак. Всем мешает, даже самыми добрыми своими намерениями. Особенно поступками…»
***
А змеюка-то всё разом смекнула: жена есть жена, попробуй отвяжись, откажи в прокорме ребёнка! И – насела на «папашку»! Через суды насела. И долго ещё не оставляла в покое. На выбитые из простодушного дурня шиши моталась туда-сюда. Возвращалась, виновато и волнующе для Великого опускала глазки…
Провинциальная «скромница», явившаяся неясно откуда, но ясно куда и зачем, неуклонно требовала, требовала, всё больше требовала! И Великий давал. Пока мог, конечно. Пока денежка не иссохла…
А в итоге почти всё, что осталось от того «романа» со змеюкой сопливой — несколько стихотворений. Воспоминания о «мазутном» периоде любви, да ещё о великой пустыне отыскались в разодранном, как и вся земная жизнь Великого, «архиве»:
«…и я, как сокол на скале,
Сидел себе в Бетпак-Дале.
И я в Бетпак-Дале сидел,
Сидел, во все глаза глядел.
Как хорошо во все глаза
Глазеть в пустыню, в небеса, —
Во все!.. а то один болит
Весь день глазеть в теодолит.
Он крив, чудовищен, трёхног,
Больной фантом, он сам измаян,
Он здесь чужой, он марсианин,
Косящий диковато, вбок.
А рейка — полосатый страж,
Фата-моргана, джинн, мираж,
Дрожащий в зное… о скала!
О сокол! О Бетпак-Дала!..
И я в Бетпак-Дале сидел,
Сидел, во все глаза глядел…»
* * *
«Медленно мысль проползает людская,
Роясь в барханах зыбучих песков,
Как черепаха, уныло таская
Вычурный панцирь веков,
Где мозгов —
Как в черепах
Черепах.
Да и всё остальное
Тоже смешное:
Череп, пах…»
* * *
И ещё что-то бредовое. От пустынного зноя, наверное:
«…ты слышал, как монах орёт?