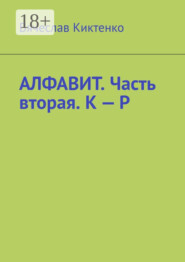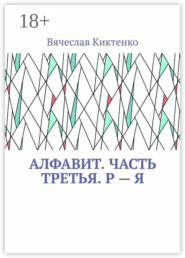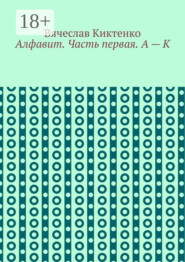По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здравствуй, утро моё покаянное,
Здравствуй, белый мой брат, холодильник…»
***
Жизнь его, промысленная где-то в горних сферах не иначе, наверное, как житие, змеилась и пласталась пыльным долом.
Ему была предначертана судьба юродивого или блаженного, коим внимают, чтут и превозносят, многозначительно трактуют слова, поступки. И даже создают иконы для вящего прославления.
Увы, жизнь не дотягивала до жития. Точнее, она была равновелика житию, но в каком-то очень уж диковинном изводе. Скорее всего, тянулись параллельно две эти линии – одна видимая и грубая, другая нежная и незримая. Простирались единосущностью в бесконечное нечто, и всё никак не могли пересечься.
То, что они где-нибудь пересекутся, факт для меня настолько несомненный, что бессмысленно напрягать читателя излишними уверениями.
По крупицам тут, в обломках эпоса о Великом, размечена лишь пунктирная карта жизни, в которой он жаждал мира, творчества, любви. Его ли вина, что жизнь постоянно оказывалась грубее истинных чувств, помыслов? А нужно ему было совсем немного. Гораздо меньше, чем остальным. Любил по-настоящему лишь истинно простое, и самое великое по сути: луга, рощи берёзовые, реки, горы…
Но и там лукавый подбрасывал грязные грёзы. О, Великий, Великий! Почему же не хранил тебя твой Ангел? Почему так трудно ты шёл через мир?
И сваркой глаза выжигал, и на огромном экскаваторе надсажался, да так, что без поллитры после смены заснуть не мог. И превращался в дебила, и писал злобное нечто, про долю-недолю земную. А зачем?..
Зачем надсажался, как дебил? Деньги. Ничего нового, просто деньги. Завёл жену, родился ребёнок. Ценные книги на чёрном рынке кусались так, что…
Да ещё, как назло, к тому времени пристрастился к настоящему чтению. Надоели грязные авторы, голодными шакалами кинувшиеся вдруг описывать все виды извращений, орально-анальные и прочие выкрутасы. Это уже разрешили, а настоящее всё ещё пребывало под запретом. Странные были времена.
Цензура, уже полусоветская, перманентно совершала невообразимую глупость – запрещала книги старых русских писателей, эмигрантов, философов. Даже поэзию эмигрантскую, не имевшую никакого отношения к политике, запрещала.
Когда зарубежные писатели спрашивали советских товарищей: почему бы не печатать востребованные книги, те отвечали с душевною простотой – с бумагой в стране напряжёнка. Зарубежные товарищи изумлялись: как, у вас нет бумаги, чтобы печатать деньги? Не печатали…
Над глупостью этой долго и горько смеялись. Все. Великий же молча и сурово решил задачу – пошел в УМС, кончил курсы, сел на экскаватор, где платили круто по советским меркам – от трёхсот рублей и выше. В итоге, остался творческий след. Увы, невеликий. Обрывочки:
На карьере, на закате…
«Будто бредит грузный варвар
Вгрызом в сахарны уста,
Будто грезит грязный автор,
«Пласт оральный» рыть устав,
Церебральный экскаватор
Дико вывихнул сустав,
И торчит, сверкая клёпкой,
И урчит, срыгая клёкот,
Будто грёзу додолбил
Засосавший вкусный локоть
Цепенеющий дебил…»
Индюк думал…
Дебил? Были признаки, были. Хотя… в какие выси порой заносило! Даже в ранние годы. Не каждого занесёт.
Когда Великий узнал в последние школьные годы, что стихи бывают не только длинные и противные, спросил обнадёженно: «А сколько, минимум, строк бывает для счастья?..».
Я ответил – «Три».
Объяснил, что есть в стране Японии Танкисты и Хоккеисты. Танкисты пишут пять строк, Хоккеисты три. Произведения в этом жанре называются соответственно «Танка» и «Хокку». Дал почитать антологию японской лирики.
Танкисты Великого почему-то не заинтересовали. А вот хоккеистами очень даже увлёкся. И много в том преуспел. Для начала составил коротенькое лирическое хокку с длиннющим названием. Кстати, не в последнюю очередь поразило Великого то, что названия у «хоккеистов» были порою длиннее самих миниатюр:
Проходя по шумному городу, вижу одиноко грустящую девушку
«Сердце сжалось от нежности.
Среди гвалта и сумасшествия, на опустевшй скамейке —
Русая тишина».
Я похвалил.
Великий вдохновился и – записал!..
***
Дико работоспособный, одержимый творчеством, да и любой работой, подворачивающейся, как водится непредсказуемо, через месяц принёс на погляд мешок трёхстиший, которые трудно было отнести к образцовому «Хокку», ибо ни слоговых, ни ударных законов там не соблюдалось. Да и тематика слишком уж не по-японски созерцательная… похабненькая выныривала.
Что тут попишешь? Русским был до мозга костей.
И всё же самое чудовищное из гадовых трёхстиший я запомнил. Именно в силу чудовищности и русскости. Да оно так и называлось: «Русское хокку»:
«Осень…
Усы падают
В суп…»
А ещё «Утреннее хокку»:
«По чёрной зеркальной глади
Белые скользят облака…
Кофе пью на балконе!»