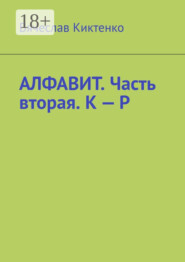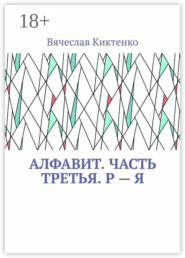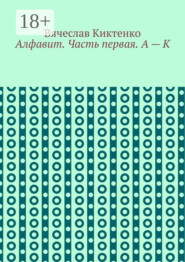По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ячменное зёрнышко. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В России смута, малые и немалые племена всё делят-не поделят несчастные клочки земли. Мелочность, суета, распродажа всего и вся, кишение обезличенных толп, как на предметном стекле под микроскопом… а он всё всплывает из памяти, тот великаний образ – образ неотмирного существа, восхищавшего детское воображение…
Словно бы и теперь он способен, словно он один способен примирить, угасить собою все наши мелочные сегодняшние страстишки…
Но ведь он рухнул… рухнул он, тот ослабевший костяк, рухнул под несоразмерною массой!..
Значит, он был н е п р а в и л ь н ы й в этом мире?
Так почему же всё видится он, видится издалека? – молчаливый, печальный великан, медленно уходящий в горы…
…уходящий вдаль со своей верной подругой…
…а мы, пучеглазое восторженное племя, всё глядим ему вслед из щелей забора…
…мы взволнованы небывалым видением, воочию сошедшим со страниц любимых сказок, легенд, преданий…
…мы словно бы ожидаем его возвращения…
…и даже не его самого, а той самой силы…
…той самой силы, доброты, благородства неведомых нам великанов, которые обречены —
– да неужели же так непоправимо обречены?!! —
на грусть, неуют и, в лучшем случае, на досужее изумление в иных, сильно сузившихся временах?..
…в иных племенах…
…в иных именах…
ЯЧМЕННОЕ ЗЁРНЫШКО
Памяти Егора Гилева
Егор, Егор, Егор… крапивное семя. И не было, и нет перевода вам, мастеровым, трудягам-оформителям, книжным графикам. И даровитым, и не шибко таланным. Нет вам перевода, и слава Богу. Без вас утратила бы жизнь – не то чтобы яркие свои краски – нет, но некий, не вполне зримый огрубевшему глазу тон, точнее даже – фон, внутренний, как бы заэкранный фон бытия. Или, говоря на твоём, Егор, языке, языке живописца – загрунтовку, на которой и вершится, и цветёт радужными красками корифеев пёстрая картина мира, явленного в подлинно художественных перлах…
Впрочем, была и у тебя, как у всякого «нутряного», въедливого художника своя заветная полочка. Взглянуть на неё далеко не каждому доводилось, ибо то было Святое Святых, – серия «Заступники народные». А вот мне довелось. Проникся доверием Егорушка. Да и то сказать, как не проникнуться после совместной работы над книгой, после множества совместно выпитого в задушевных беседах?
К тому времени, о котором пойдёт речь, а это были 80-е годы, работая в издательстве, я давненько уже присматривался к этому, не то что странноватому и одинокому, но как бы отдельно от всех стоящему и ходящему человеку. Кержак, родом с Алтая, седоватый мужик, медленно но неотвратимо подбирающийся к шестому десятку, он не чурался общества художников, в основном молодых и «продвинутых», как им казалось, ребят и девушек, окончивших столичные вузы.
Пил с ними охотно и много, никогда не пьянел. Только гуще и пронзительнее синели глаза на тёмном, словно бы вырезанном из алтайского корня лице с резко обозначенными, вперёд выдвинутыми скулами. Выправка была удивительная, словно этот деревенский мужик окончил некогда кадетский корпус, где военной выправке придавалось нешуточное значение. Тем кадетам, кто имел несчастье сутулиться, привязывалась к спине палка, которую не дозволялось снимать ни днём, ни ночью. Так и спали, а потом ходили с болтающейся за спиною палкой, терпели насмешки и унижения, покуда не преодолевался врожденный либо обретенный в барской лености порок и не становился сутулящийся юнец стройным, прямым, как и все остальные выученики кадетского корпуса.
Вот и Егор… диву давался я, как он, немолодой человек, в любом застолье, когда и молодые уже скрючились или «растеклись пластилином», как он стройно и строго сидел, слегка насмешливо взблескивая порою из-под кустистых бровей иссиня-черными своими глазами – сузившимися, и ещё пронзительнее засверкавшими.
Никаких заказов он, старый книжный график, не чурался. – Работа есть работа, дают подзашибить копейку, и на том спасибо. Тем более, от него мало что зависело в выборе – молодые, сбившись в плотную модернистскую стайку, хозяйничали в издательстве напропалую, лучшие заказы забирали, естественно, себе, отдавали любовницам, родственникам, дружкам….
А мне нравилась манера Егора. Оформлял он книги в основном чёрно-белой графикой. Никаких изысков, шрифтовых завитушек, за которыми теряется смысл, а порою и слово невозможно прочесть, у него не было. Строгая, четкая линия, предельно точно подчеркивавшая смысл написанного. Именно то, что мне и требовалось. Я тогда издавал книгу стихов «Световид», основу которой составляли древнеславянские мифы, верованья, заклинания. Много прочел книг по этой тематике, пока не наткнулся, наконец, на детальное изображение Збручского идола. Это и был знаменитый верховный Бог древних славян – Род-Световид. Вытянутый головою вверх, космический и фаллический одновременно идол. Разные поименования его приводились в книге: и Свентовит, и Святовит, и Световит… мне нужен был именно – Вид, как бескрайний круговой обзор света. И я нашёл этот вариант – Световид. Ствольно вытянувшийся вверх, смотрел он словно бы свысока на все четыре стороны света, прямой, вырубленный из единого мощного древа, и на каждой стороне его – от лица до подножия – изукрашенный магическими знаками-оберегами древних славян. Тут и лунный рожок, и ритуальный жреческий нож, и конь-князёк, и коло – восьмигранное колесо-солнце…
Я попросил Егора, с которым к тому времени уже неплохо был знаком по работе, заняться оформлением книги. Причём попросил шибко не фантазировать (можно было и не просить!), а просто дать чёткое изображение статуи в начале и в конце книги, а также разложить по деталям – рожок, конь, коло – перед каждой новой главой.
Егор изумительно точно воспроизвёл всё то, о чем я просил. Книгу сдали в производство, а до выхода её в свет мы с Егором хорошо погуляли. В основном на мой аванс. Да что там погуляли, – подружились и духовно во многом сошлись. Во многом, но не во всём.
Егор был, что называется, радикальный консерватор. Никакие малевичи с кандинскими, никакие модернисты с авангардистами для него в живописи не существовали. Как и в поэзии, впрочем. А стихи он любил безумно, мог читать и слушать часами. Но вот авангарда, как русского, так и мирового, не воспринимал.
«Душа не берет, понимаешь? Суди как хочешь, а вот не ложатся на душу все эти эквилибристы… извращенцы!..» – так реагировал на чтение ему Дилана Томаса, Элиота, Эзры Паунда. И даже наших модернистов и авангардистов называл по большей части нерусью. Даже к родимому Хлебникову относился с большим подозрением. Понимал, конечно, понимал, и уж точно чуял – это стихи не просто поэта, а поэта-великана. Но ценил всё равно лишь «разумное, доброе, вечное», как именовал русскую классику, в основном из старой школьной программы.
Когда однажды я попытался пояснить ему своё, естественно, «истинное» понимание «рубленого» языка, значение корнецентрической сути и величия Хлебникова, обозначив его чуть ли не единственным русским поэтом, которого (в отличие от гениальных наших, хрестоматийных классиков 19 века, по форме и часто даже по содержанию принадлежащих всё же к поэтом с европейской культурной ориентацией), можно назвать даже древнерусским поэтом, восходящим к самому «Слову о полку», Егор удивлённо вскинул брови.
Я пошёл дальше, стал развивать мысль о том, как в структурных глубинах языка, где-то в подпочвенных его недрах порою смыкаются чуть ли не воедино архаисты и новаторы (да хоть бы те же авангардисты, но – не модернисты), Егор устало махнул рукой и грустно молвил:
– «Устал я, знаешь, от этих умствований… и потом, пусть они себе гениальны и даже родственны, все эти твои Державины-Хлебниковы, а Пушкин, Некрасов, Есенин мне всё одно милее…»
Я тогда лишь язвительно скаламбурил: «Да, были когда-то и мы русаками…»
Однажды Егор приоткрыл мне Святая Святых. Купил литр водки, позвал в гости и, волнуясь, отдернул шторы в заветном чуланчике… включил переноску…
С полки смотрели классики: Лев Толстой, восседавший на троне… Некрасов с кувшином молока и очень тревожными почему-то глазами… Достоевский, весь ушедший в себя, словно придавленный неподъемными какими-то думами… Пушкин… Есенин… Шолохов… Шукшин… Рубцов…
Гравюры были прекрасно выполнены, серия сама по себе очень интересна. Я бы сказал – литературно интересна. И берег он её от людских взглядов как последнюю свою надежду. Никем особо не признанный художник, лелеял, видимо, надежду под конец жизни поразить неблагодарных искусствоведов и зрителей своей «Лебединой песней»…
Песней, которая так и не была спета до конца.
Не зная толком что ответить Егору, сказал то, что само и напрашивалось на язык – почему именно такой выбор, такой отбор звёзд из великого космоса русской литературы? И тут у нас завязался, а точнее продолжился давно уже начатый, порою яростный, порою лукавый спор.
– «Егор, а Тютчев у тебя будет?..»
– «Я думал… много думал… страсть как люблю, а всё же в эту серию – „Заступники народные“ – Тютчев, пожалуй, не вписывается… не вписывается, и всё тут!..»
– «Но почему? Вспомни, сколько у него болевых, гражданственных стихотворений. Их, пожалуй, даже поболее, нежели „чистая лирика“…»
– «Это да, это так… но согласись, что лучшие его стихи, его шедевры – это как раз то, что ты называешь чистой лирикой. А чистая лирика – все же индивидуализм в своей основе. Серия „Заступники народные“… – Соборное начало. И это во-первых!» – гордо и даже грозно вострубил Егор, тяпнувший уже пару стаканов белой. Я тоже не отставал.
– «Ну, а Лермонтов будет?»
– «Лермонтов?.. может и будет. А может и – нет! – опять грозно и не без затаённой злости какой-то рявкнул Егор. – Знаешь, все эти печорины, княжны мэри, демоны… ну какой он, скажи по совести, заступник народный? Гениальный мальчишка, не успевший раскрыться во всю мощь… люблю его и жалею страшно… а вот не решил, до конца не решил…»
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: