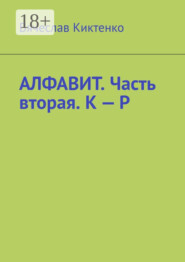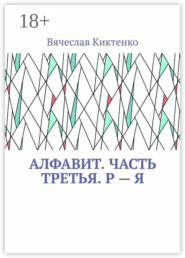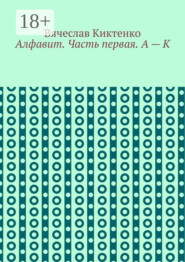По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ячменное зёрнышко. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ячменное зёрнышко. Сборник рассказов
Вячеслав Киктенко
В книге «Ячменное зёрнышко» собраны рассказы разных лет, различного объёма. Их объединяет пристальный взгляд из настоящего в прошедшее – как весьма уже отдалённое, «Советское время», так и сравнительно недавнее, время «Новой России».
Ячменное зёрнышко
Сборник рассказов
Вячеслав Киктенко
© Вячеслав Киктенко, 2020
ISBN 978-5-0051-5616-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВЯЧЕСЛАВ КИКТЕНКО
СБОРНИК РАССКАЗОВ ЯЧМЕННОЕ ЗЁРНЫШКО
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — —
СОДЕРЖАНИЕ:
– РАБОЧИЙ
– ВАСЯ-ЧЕЧЕН
– ЯЧМЕННОЕ ЗЁРНЫШКО
– А МАЛЬЧИК ГОВОРИЛ…
– АНТИЧНЫЕ БАСНИ ПРО ЭТО
РАБОЧИЙ
Странное дело, почему-то всё чаще в последнее время всплывает из памяти,
из давней-предавней были, из самого детства, смерть почти незнакомого мне человека. А точнее – его похороны, казалось, мимо меня прошедшие похороны, но, как выясняется теперь, не совсем, и очень даже не совсем, мимо.
Я и мои друзья, такие же дошколята, жившие в одном дворе, в большом (по тем временам) двухэтажном доме, изредка видели его, этого человека, устало возвращавшегося с работы через наш двор в свой частный сектор, окруживший «большой» дом. Немолодой, дюжий человек, он шёл, устало, но твёрдо впечатывая шаги в утоптанную тропу, изогнувшуюся мимо нашего подъезда, сквозь соседские палисадники и сады в свой одноэтажный домик, скрытый в сирени. Он был рабочий с завода имени Кирова, эвакуированного во время войны в наш южный город, да так и оставленного здесь на бессрочные времена. Завод был союзного подчинения – кто же думал, что великая страна будет развалена? Работал завод на оборонку, ориентирован был на крупные, непреходящие дела. Вот и люди оттуда казались крупными, вечными. А, может, и в самом деле были такими?
Да, рабочие 50-х мне запомнились именно такими, словно бы все на одно лицо – суровые, грузно ступающие по земле мужики в серых суконных робах. Они были малоразговорчивы (или так казалось?), будто навсегда были изваяны или отлиты из какой-то сверхпрочной материи, которой сносу нет, и не будет. Даже по праздникам, выпивая в беседке своей рабочей компанией, они переговаривались глухо и кратко, словно всё на свете им уже давно было известно. Так что и слов лишних тратить не надо. Они были – свой, отдельный от всех других, и словно бы возвышенный над всеми другими, мир. Содружество молчаливых, сильных, суровых людей, своими руками возводивших промышленные гиганты, создававших послевоенные грузовые машины «Медведь» и «Буйвол» с волновавшими детское воображение стальными нашлёпками на кабинах.
Мы, ребятишки, взахлёб спорили какая машина сильнее – та, на которой изображён медведь, или буйвол? Даже, можно сказать, свои партии у нас были: партия «буйволистов» и «медведистов».
А что, были же в то время партии оперных фанаток – «лемешистки» и «козловистки»? Были. Почему нашим не быть? Были…
Сословие служащих, интеллигентов было заметно иным. Люди иной статьи, иной стати. Они не так тяжело ступали по земле, как рабочие. Они были словоохотливее, легче, прозрачней. Но вот что удивительно – именно рабочие нам, ребятишкам, казались… настоящими! Вряд ли здесь играла роль пропаганда, тогдашнее восславление «гегемона», трудового авангарда. Да и что особенного они имели, в отличие от остальных? Уровень жизни? Как у всех других. Только что вот эти серые робы, тяжкий труд, грузная поступь. Нет, здесь, в этом ощущении их отдельности от других, было нечто природное, а не социальное. Может быть, подспудно чуялось, что вот именно за этими сутулыми плечами – правда. Подлинность. Именно трудом заработанный кусок хлеба. Но ведь работали все – и отцы наши, и матери! Безработных не было. Были лентяи, спившиеся, но класса, сословия безработных не было!..
Как я сейчас понимаю, это было какое-то подземное, хтоническое ощущение огненной стихии, с которой имел дело рабочий. Домны. Железо. Плавка. Ковка. Молот. Кузня. – со всем этим накрепко, насмерть связывалось понятие Рабочий. И ещё чувствовалось – на этих плечах стоит страна. А страна громадная! Как же груз её давит на плечи? Так давит, что сутулятся они, даже такие костистые, такие могучие…
Два грузовика, две «полуторки» проехали через наш двор, изгибаясь меж буйно разросшихся к весне кустов сирени. В дощатых кузовах молча стояли мужчины, люди с завода. Один чёрный венок, один красный гроб – и ничего больше. Ни цветов, ни медных труб, ни страшного Шопена, раздирающего душу. Молча занесли лёгкий гроб в избу, молча вынесли тяжёлый. Погрузили в «полуторку», постояли с обнажёнными головами, и – тронулись. Одна машина с гробом и венком, другая с людьми. Вся округа, вышедшая на прощание, также молчала. Я спросил старшую сестру:
– «А почему без цветов, без музыки?..»
Сестра ответила очень кратко, но странно убедительно:
– «Потому, что он был рабочий…»
И уже ничего не надо было мне объяснять, я словно и в самом деле вспомнил (как мог забыть?) – ну да, ведь он же был рабочий, рабочий!.. И всё встало на свои места.
«Полуторки» медленно проехали через двор, вырулили на улицу Кирова, прямиком ведущую к заводу. Мы все медленно, как заворожённые, двигались вслед. И вот, когда машины уже пошли по прямой, к родному заводу, оттуда раздался тяжкий, словно бы утробный, не такой, как обычно, – долгий-долгий вой заводской сирены…
По гудку начинали день. По гудку отмечали время перерыва. По гудку заканчивали труд. Но то был – гудок, давно привычный, и всё же всегда заглушавший любые будничные шумы – зазывания точильщика, крики петухов, перебранку домохозяек. Гудок был частью жизни не только завода, но всего городского быта. Казалось, он был и будет всегда. Времена, когда его отменят,
могли бы тогда показаться дурным сном. Отменить гудок – всё равно, что отменить пушечные залпы в Питере, у Петропавловки. Но вот, отменили, однако ж. Где сон, где явь?..
Да, в тот день была именно сирена, а не гудок. Гудок звучал деловито, собранно и недолго. А этой скорбный вой тянулся, словно из-под земли, и всё никак не оканчивался. Машины уже почти скрылись из вида, а он всё тянулся, тянулся, тянулся…
Он не вынимал душу, как шопеновское рыданье, он собирал людей воедино – таких разных, таких вздорных порою в быту, но становившихся вдруг молчаливыми, вдруг обретшими непонятную, невесть откуда взявшуюся силу и значимость, людьми – современниками.
И пока он гудел, и даже когда умолк, во мне странно звучали они, не объясняющие ничего, но объяснившие всё, слова сестры: «Потому, что он был рабочий…» Да они и теперь не забылись, и теперь, получается, живут во мне, по-прежнему ничего не объясняя, лишь заставляя думать, всякий раз по-новому думать и чувствовать. А ещё – помнить. А ещё – делать и жить (всё чаще молча теперь, даже в слове) – делать и жить.
ВАСЯ-ЧЕЧЕН
– Пацаны, пацаны, Вася-Чечен!.. – вдруг разносился восторженный, исполненный затаённого ужаса крик, и мы, позабросив игры, со всех концов двора начинали напряжённо стекаться к воротам. Что-что, а уж это зрелище пропустить никак было нельзя.
Шествие Васи-Чечена по городу, обычно в сопровождении супруги, было событием. И совершалось оно чаще всего вверх по улице Ленина, мимо нашего двухэтажного дома, стоявшего на перекрёстке бывших улиц Кирова и Ленина.
Вася-Чечен жил в нижней части города, где-то в районе Малой Станицы, и выходы его в верхнюю часть не могли остаться незамеченными, особенно нами, детьми 50-х годов.
Это был неофициальный Праздник, который потом долго
обсуждался нами на вечерних посиделках у домовой кирпичной трубы во дворе, обсуждался с наворачиванием самых невероятных подробностей, подсмотренных в щели забора.
Забор наш, прочно замыкавший многоквартирный дом, строился по-старинному капитально, в добротном верненском стиле. Город Верный когда-то, в основании своём, был казачьей крепостью, и даже после революции долгие годы потом сохранялся в нём уклад и быт семиреченских казаков.
Вот и забор наш, с каменными столбами для коновязи, врытыми в землю, с мощными опорными брусьями, с покатой крышей-навесом, сооружался в старом казачьем стиле.
Хоть и потрескался, и покосился от времени наш забор, но по-прежнему служил надёжной защитой от бродяг, от набегов соседского хулиганья, с которыми у нас по смутной традиции велась нескончаемая, необъявленная и ничем не объяснимая война. Война без чёткого различия возраста, пола и нации.
А уж разнообразие наций в послевоенной Алма-Ате было густоты невероятной. Одних ссыльных сколько! – только начни перечислять – не скоро закончишь…
Немало чеченцев, высланных в Казахстан, перебралось со временем в Алма-Ату, где жили они своими тесными общинами. Как правило, в частном секторе. Строили дома на несколько семей, – большие глухие дома с узкими окнами, напоминавшими крепость. Старшее поколение жило мирно, занимаясь в основном строительством и торговлей, а молодёжь нередко бузотёрила. Но испугать видавший виды город они не могли. Турецкие, корейские, балкарские башибузуки были не менее активны, а интернациональные центровые банды, в основном русско-казахские, вообще, как тогда говорили, «держали мазу» в городе. Словом, ничем особенным чеченцы не выделялись. «Поножовщики» – говорили про них, и это как бы само собой разумелось: горец всегда при кинжале. А за неимением оного – при ноже. «Партбилет» – с гордостью именовали молодые бандиты свой тесак. И все спокойно посмеивались.
В общем, ничем очень уж «эксклюзивным» чеченцы той поры из общей массы не выделялись, так что затаённый ужас при упоминании Васи-Чечена связывался не с грозным образом бандитствующей молодёжи, а с грандиозностью легендарной фигуры самого героя.
Да, Вася-Чечен был настоящей легендой города – тех лет, той эпохи. И рассказать хочется именно о нём – пусть лишь отрывочными воспоминаниями и детским восприятием – но именно о нём, а не о последующем «кавказском феномене». Если только это возможно… если возможно отделить те воспоминания от сегодняшних тёмных событий.
Вячеслав Киктенко
В книге «Ячменное зёрнышко» собраны рассказы разных лет, различного объёма. Их объединяет пристальный взгляд из настоящего в прошедшее – как весьма уже отдалённое, «Советское время», так и сравнительно недавнее, время «Новой России».
Ячменное зёрнышко
Сборник рассказов
Вячеслав Киктенко
© Вячеслав Киктенко, 2020
ISBN 978-5-0051-5616-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВЯЧЕСЛАВ КИКТЕНКО
СБОРНИК РАССКАЗОВ ЯЧМЕННОЕ ЗЁРНЫШКО
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — —
СОДЕРЖАНИЕ:
– РАБОЧИЙ
– ВАСЯ-ЧЕЧЕН
– ЯЧМЕННОЕ ЗЁРНЫШКО
– А МАЛЬЧИК ГОВОРИЛ…
– АНТИЧНЫЕ БАСНИ ПРО ЭТО
РАБОЧИЙ
Странное дело, почему-то всё чаще в последнее время всплывает из памяти,
из давней-предавней были, из самого детства, смерть почти незнакомого мне человека. А точнее – его похороны, казалось, мимо меня прошедшие похороны, но, как выясняется теперь, не совсем, и очень даже не совсем, мимо.
Я и мои друзья, такие же дошколята, жившие в одном дворе, в большом (по тем временам) двухэтажном доме, изредка видели его, этого человека, устало возвращавшегося с работы через наш двор в свой частный сектор, окруживший «большой» дом. Немолодой, дюжий человек, он шёл, устало, но твёрдо впечатывая шаги в утоптанную тропу, изогнувшуюся мимо нашего подъезда, сквозь соседские палисадники и сады в свой одноэтажный домик, скрытый в сирени. Он был рабочий с завода имени Кирова, эвакуированного во время войны в наш южный город, да так и оставленного здесь на бессрочные времена. Завод был союзного подчинения – кто же думал, что великая страна будет развалена? Работал завод на оборонку, ориентирован был на крупные, непреходящие дела. Вот и люди оттуда казались крупными, вечными. А, может, и в самом деле были такими?
Да, рабочие 50-х мне запомнились именно такими, словно бы все на одно лицо – суровые, грузно ступающие по земле мужики в серых суконных робах. Они были малоразговорчивы (или так казалось?), будто навсегда были изваяны или отлиты из какой-то сверхпрочной материи, которой сносу нет, и не будет. Даже по праздникам, выпивая в беседке своей рабочей компанией, они переговаривались глухо и кратко, словно всё на свете им уже давно было известно. Так что и слов лишних тратить не надо. Они были – свой, отдельный от всех других, и словно бы возвышенный над всеми другими, мир. Содружество молчаливых, сильных, суровых людей, своими руками возводивших промышленные гиганты, создававших послевоенные грузовые машины «Медведь» и «Буйвол» с волновавшими детское воображение стальными нашлёпками на кабинах.
Мы, ребятишки, взахлёб спорили какая машина сильнее – та, на которой изображён медведь, или буйвол? Даже, можно сказать, свои партии у нас были: партия «буйволистов» и «медведистов».
А что, были же в то время партии оперных фанаток – «лемешистки» и «козловистки»? Были. Почему нашим не быть? Были…
Сословие служащих, интеллигентов было заметно иным. Люди иной статьи, иной стати. Они не так тяжело ступали по земле, как рабочие. Они были словоохотливее, легче, прозрачней. Но вот что удивительно – именно рабочие нам, ребятишкам, казались… настоящими! Вряд ли здесь играла роль пропаганда, тогдашнее восславление «гегемона», трудового авангарда. Да и что особенного они имели, в отличие от остальных? Уровень жизни? Как у всех других. Только что вот эти серые робы, тяжкий труд, грузная поступь. Нет, здесь, в этом ощущении их отдельности от других, было нечто природное, а не социальное. Может быть, подспудно чуялось, что вот именно за этими сутулыми плечами – правда. Подлинность. Именно трудом заработанный кусок хлеба. Но ведь работали все – и отцы наши, и матери! Безработных не было. Были лентяи, спившиеся, но класса, сословия безработных не было!..
Как я сейчас понимаю, это было какое-то подземное, хтоническое ощущение огненной стихии, с которой имел дело рабочий. Домны. Железо. Плавка. Ковка. Молот. Кузня. – со всем этим накрепко, насмерть связывалось понятие Рабочий. И ещё чувствовалось – на этих плечах стоит страна. А страна громадная! Как же груз её давит на плечи? Так давит, что сутулятся они, даже такие костистые, такие могучие…
Два грузовика, две «полуторки» проехали через наш двор, изгибаясь меж буйно разросшихся к весне кустов сирени. В дощатых кузовах молча стояли мужчины, люди с завода. Один чёрный венок, один красный гроб – и ничего больше. Ни цветов, ни медных труб, ни страшного Шопена, раздирающего душу. Молча занесли лёгкий гроб в избу, молча вынесли тяжёлый. Погрузили в «полуторку», постояли с обнажёнными головами, и – тронулись. Одна машина с гробом и венком, другая с людьми. Вся округа, вышедшая на прощание, также молчала. Я спросил старшую сестру:
– «А почему без цветов, без музыки?..»
Сестра ответила очень кратко, но странно убедительно:
– «Потому, что он был рабочий…»
И уже ничего не надо было мне объяснять, я словно и в самом деле вспомнил (как мог забыть?) – ну да, ведь он же был рабочий, рабочий!.. И всё встало на свои места.
«Полуторки» медленно проехали через двор, вырулили на улицу Кирова, прямиком ведущую к заводу. Мы все медленно, как заворожённые, двигались вслед. И вот, когда машины уже пошли по прямой, к родному заводу, оттуда раздался тяжкий, словно бы утробный, не такой, как обычно, – долгий-долгий вой заводской сирены…
По гудку начинали день. По гудку отмечали время перерыва. По гудку заканчивали труд. Но то был – гудок, давно привычный, и всё же всегда заглушавший любые будничные шумы – зазывания точильщика, крики петухов, перебранку домохозяек. Гудок был частью жизни не только завода, но всего городского быта. Казалось, он был и будет всегда. Времена, когда его отменят,
могли бы тогда показаться дурным сном. Отменить гудок – всё равно, что отменить пушечные залпы в Питере, у Петропавловки. Но вот, отменили, однако ж. Где сон, где явь?..
Да, в тот день была именно сирена, а не гудок. Гудок звучал деловито, собранно и недолго. А этой скорбный вой тянулся, словно из-под земли, и всё никак не оканчивался. Машины уже почти скрылись из вида, а он всё тянулся, тянулся, тянулся…
Он не вынимал душу, как шопеновское рыданье, он собирал людей воедино – таких разных, таких вздорных порою в быту, но становившихся вдруг молчаливыми, вдруг обретшими непонятную, невесть откуда взявшуюся силу и значимость, людьми – современниками.
И пока он гудел, и даже когда умолк, во мне странно звучали они, не объясняющие ничего, но объяснившие всё, слова сестры: «Потому, что он был рабочий…» Да они и теперь не забылись, и теперь, получается, живут во мне, по-прежнему ничего не объясняя, лишь заставляя думать, всякий раз по-новому думать и чувствовать. А ещё – помнить. А ещё – делать и жить (всё чаще молча теперь, даже в слове) – делать и жить.
ВАСЯ-ЧЕЧЕН
– Пацаны, пацаны, Вася-Чечен!.. – вдруг разносился восторженный, исполненный затаённого ужаса крик, и мы, позабросив игры, со всех концов двора начинали напряжённо стекаться к воротам. Что-что, а уж это зрелище пропустить никак было нельзя.
Шествие Васи-Чечена по городу, обычно в сопровождении супруги, было событием. И совершалось оно чаще всего вверх по улице Ленина, мимо нашего двухэтажного дома, стоявшего на перекрёстке бывших улиц Кирова и Ленина.
Вася-Чечен жил в нижней части города, где-то в районе Малой Станицы, и выходы его в верхнюю часть не могли остаться незамеченными, особенно нами, детьми 50-х годов.
Это был неофициальный Праздник, который потом долго
обсуждался нами на вечерних посиделках у домовой кирпичной трубы во дворе, обсуждался с наворачиванием самых невероятных подробностей, подсмотренных в щели забора.
Забор наш, прочно замыкавший многоквартирный дом, строился по-старинному капитально, в добротном верненском стиле. Город Верный когда-то, в основании своём, был казачьей крепостью, и даже после революции долгие годы потом сохранялся в нём уклад и быт семиреченских казаков.
Вот и забор наш, с каменными столбами для коновязи, врытыми в землю, с мощными опорными брусьями, с покатой крышей-навесом, сооружался в старом казачьем стиле.
Хоть и потрескался, и покосился от времени наш забор, но по-прежнему служил надёжной защитой от бродяг, от набегов соседского хулиганья, с которыми у нас по смутной традиции велась нескончаемая, необъявленная и ничем не объяснимая война. Война без чёткого различия возраста, пола и нации.
А уж разнообразие наций в послевоенной Алма-Ате было густоты невероятной. Одних ссыльных сколько! – только начни перечислять – не скоро закончишь…
Немало чеченцев, высланных в Казахстан, перебралось со временем в Алма-Ату, где жили они своими тесными общинами. Как правило, в частном секторе. Строили дома на несколько семей, – большие глухие дома с узкими окнами, напоминавшими крепость. Старшее поколение жило мирно, занимаясь в основном строительством и торговлей, а молодёжь нередко бузотёрила. Но испугать видавший виды город они не могли. Турецкие, корейские, балкарские башибузуки были не менее активны, а интернациональные центровые банды, в основном русско-казахские, вообще, как тогда говорили, «держали мазу» в городе. Словом, ничем особенным чеченцы не выделялись. «Поножовщики» – говорили про них, и это как бы само собой разумелось: горец всегда при кинжале. А за неимением оного – при ноже. «Партбилет» – с гордостью именовали молодые бандиты свой тесак. И все спокойно посмеивались.
В общем, ничем очень уж «эксклюзивным» чеченцы той поры из общей массы не выделялись, так что затаённый ужас при упоминании Васи-Чечена связывался не с грозным образом бандитствующей молодёжи, а с грандиозностью легендарной фигуры самого героя.
Да, Вася-Чечен был настоящей легендой города – тех лет, той эпохи. И рассказать хочется именно о нём – пусть лишь отрывочными воспоминаниями и детским восприятием – но именно о нём, а не о последующем «кавказском феномене». Если только это возможно… если возможно отделить те воспоминания от сегодняшних тёмных событий.