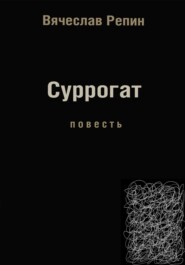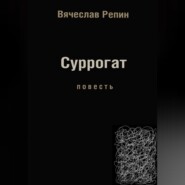По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа
Автор
Год написания книги
1998
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
P. S. Еще два слова. Я уже в Веллингтоне. Не успела перед отъездом опустить в ящик это письмо, как Петя разболелся. Даже не знаем, что с ним произошло. Вчера на нашей улице полиция вылавливала бешеную дворняжку: собаку пришлось застрелить, на глазах у собравшихся зевак. Мы с Петей тоже наблюдали за этой беготней из толпы, и он вдруг впал в настоящую истерику. А когда вернулись в дом, у него начался жар, со вчерашнего дня он в постели. Врач объясняет это его впечатлительностью, советует показать его психологу. Но не волнуйся, ничего страшного. Он просто бредит, бормочет что-то про футбол (я тебе не говорила, но он почти каждый день гоняет с мальчишками мяч): «Не хочу стоять на воротах!» Бедняжка! У него головка идет кругом от английского. Но думаю, что всё же привыкнет, ведь он уже вовсю щебечет по-английски. Ты не поверишь, но я вынуждена констатировать, что у него огромный словарный запас. Наверное, от меня. Он просто отказывался раньше говорить по-английски. Правда, и сейчас он предпочитает повторять одни цифры. Не понимаю, чем это вызвано, но он обожает произносить по-английски цифры… Станет математиком?»
День уже клонился к закату и над садом быстро темнело, когда в дверь кто-то позвонил.
Петр пошел открыть. На порог стоял Жан, сосед. Извинившись «за вторжение», художник виновато ткнул рукавом в сторону потемневшего ельника и сказал, что только что говорил по телефону с Мари Брэйзиер. Она попросила его сходить узнать, есть ли кто дома. Телефон не отвечает, и Брэйзиеры беспокоились за него.
Петр пригласил гостя в дом. Сосед молча прошел за ним в кабинет, минуя гостиную, и они оказались сидящими друг перед другом на стульях. Задумчиво встретившись глазами, оба продолжали молчать.
– Хотите чего-нибудь?.. Выпить.
– А что у вас есть?
– Коньяк тут был где-то…
Художник безвольно кивнул.
– Да, у вашего отца всегда был коньяк, – проронил он. – Сам он его не пил…
Петр принес бутылку. Наполнил две пузатые рюмки. Оба продолжали сидеть молча, не притрагиваясь к коньяку и почему-то глядя в чернеющий сад, а затем в опустевшую, распахнутую гостиную, которая как что-то самое емкое и вместительное во всём доме стала быстро наливаться синим полумраком.
– Я был привязан к вашему отцу, – нарушил сосед молчание. – Чудный человек.
Петр изрек что-то невнятно одобрительное, ни да ни нет. Сосед вынул из кармана парусиновой куртки деревянный ящичек с крохотными сигарами и, открыв крышку, протянул их Петру. Петр отрицательно покачал головой.
– Отчаяние – это грех, – сказал сосед. – Ваш отец мне говорил как-то, что устал… Может показаться странным такое утверждение. Как можно устать от жизни? Все сразу думают: смотря от какой! А я понимаю… Смотря что ждешь с той стороны. Так что не унывайте. Всё так, как должно быть… Дом будете продавать или себе оставите?
– Не знаю.
– Если хотите, можете спать у меня сегодня. В вашей бывшей спальне. Ваш отец мне показывал, где была когда-то ваша комната.
Петр вскинул недоуменный взгляд и осевшим голосом проговорил:
– Я хотел… я хотел здесь кое-что разобрать. Спасибо, я останусь здесь.
* * *
Отец Петра Вертягина, Вертягин-старший, родился с русским именем и фамилией, Николай Вертягин. Но это не помешало ему большую часть жизни проходить с именем «Николя» и с фамилией «Крафт». Последняя фамилия досталась ему от отчима Крафта, немецкого подданного с русской жилкой, за которого Анастасия Вертягина, его мать, вышла замуж накануне войны, после того как потеряла первого, русского мужа.
Мать Петра, Вероника, урожденная Вероника Роуз, успела побывать за свою жизнь Вероникой Крафт, Верой Вертягин (несклоняемая форма), а еще позднее стала Гертрудой Шейн – этим псевдонимом она стала подписывать свои книги.
Сам Петр, Вертягин-младший, носил имя Питер, хотя при крещении – русская бабушка вовремя настояла на том, чтобы внука крестили в родном русском храме – получил крестное имя Петр. Во Франции имя «Питер» чаще всего преобразовывали в «Пьер». Что не помешало ему из Петра Вертягина однажды превратиться в Питера Роуза. А еще позднее он стал Питером Крафтом и в этом звании проходил до той поры, пока судьбе, обычно сторонящейся золотой середины, не было угодно разжаловать его в Питера Вертягина, – но и в этом сочетании проглядывало что-то гибридное, как считал он сам.
Отец Петра был чистокровным русским, хотя родился в Женеве, куда его мать, бабушка Петра, Анастасия Евграфовна, ездила из Петербурга каждый год; страдая редким легочным заболеванием, она проходила регулярное лечение в Швейцарии.
Голубоглазая, жизнерадостная, неугомонного нрава старушка, округлявшая французские звуки «р» на манер оперных певчих, – именно такой Петр помнил свою бабушку Анастасию Евграфовну. От слова «ривьерра» – так по старинке она называла район прибрежной Франции, в котором безвыездно провела большую часть жизни, – вибрировал воздух, и что-то мягко перекатывалось в груди. От бабушки Анастасии исходила прелесть естественного увядания.
Сметая на своем пути преграды и взгребая временное пространство, перепахивая его вдоль и поперек, эпоха, в которой она жила, летела в небыль. По сути – в тартарары. И будто поздняя осень, не успевшая окончательно поступиться своими правами, лишь еще больше очаровывала своей безнадежной отрешенностью от мира реальных вещей, от мира, жаждущего обновления любой ценой…
Александра Вертягина, деда, Петр уже не застал. Дед умер в среднем возрасте от двустороннего плеврита, но всё же успел стать семейной легендой. В звании штабс-капитана он прошел всю Первую мировую войну, до сдачи фронтов немцам. Позднее, присоединившись к Добровольческой армии, прошел и гражданскую войну, эвакуировался из России через Крым, имел два ранения. Судя по фотографиям, это был рослый, темноволосый мужчина, с узкого лица которого не сходило довольно характерное выражение, свойственное в том или ином возрасте всем Вертягиным: смесь задумчивой созерцательности и горделивой иронии, что придавало облику деда нечто преднамеренное, нарочито монументальное.
Овдовевшая Анастасия Евграфовна вышла замуж во второй раз – за состоятельного немецкого дельца по фамилии Крафт, который промышлял винной торговлей между Рейнской областью и Францией. Русского происхождения, Крафт был обязан своей немецкой фамилией германским кровям, в роду давно растворившимся. Крафт, как и бабушка, был вдовцом. От прежнего брака он воспитывал двух дочерей – Эстер и Анну. Анастасия Вертягина, уже немолодая, родила ему третью дочь, Надежду. Остальную часть семьи война раскидала по всем концам Европы.
По поводу происхождения самой фамилии «Крафт» в семье сохранилось несколько различных поверий, одно причудливее другого, уже по той причине, что эта фамилия имела яркие аналоги. Например, встречалась у Достоевского в «Подростке», где описывалась история немецкого студента, жившего в России, который вдруг открыл для себя, что Россия – второстепенная держава, не имеющая никакой особой миссии, а тем более мирового призвания, как многим грезилось. На этой почве студент Крафт пустил себе пулю в лоб.
Крафт-виноторговец закончил свои дни самым что ни на есть естественным образом – благообразно угас от старости в Ля-Гард-Френэ, одном из своих поместий. Но по рассказам, именно такие взгляды в отношении своей исторической родины он исповедовал на протяжении всей жизни. Ни в «миссию» России, ни в то, что она несет на себе великомученический венец, Крафт не верил и не любил разговоры на эту тему…
Крафта Петр почти не помнил. Но образ бабушки с годами нисколько не потускнел. Особенно памятными для него оставались почему-то ее уроки рисования, которые бабушка давала ему в Биаррице и в Альпах, куда они ездили с отцом навещать ее. В санатории для туберкулезных больных она проводила немало времени и продолжала там лепить своих «зверушек», к этому времени уже успев обрести известность в определенных кругах – правда, недооцененную в ее собственной семье, как это часто бывает с художниками.
«Ты не мяч должен рисовать, а дырку в пространстве, похожую на твой мяч, – объясняла Анастасия Евграфовна. – Помни, вовсе не обязательно, чтобы дырка была круглая. Понял?»
«Понял…» – бубнил он, но так и не мог увязать в мыслях, как это мяч может не быть круглым. Он не понимал, как такой мяч может катиться по земле?
Анастасия Евграфовна закончила свои дни в Центральном массиве, в поместье, когда-то приобретенном Крафтом, которое долгое время сдавалось в аренду, но содержалось плохо и оказалось запущенным. Приведя имение в порядок, Анастасия Евграфовна жила последние годы одна, наотрез отказываясь куда-либо переезжать, как ни старался сын вызволить ее из глуши, предлагая ей жить вместе. В эти годы в ней появилась набожность, зачатки которой давали о себе знать и раньше. Неподалеку от села, в котором она жила, находился небольшой русский приход. Позднее отец уверял Петра, что это и явилось главной причиной переселения бабушки в те края. Прислуги бабушка не держала. Всю необходимую помощь по дому и по хозяйству ей оказывали соседи-французы, простая деревенская семья. И вот незадолго до кончины Анастасия Евграфовна обратилась к сыну и к дочерям с просьбой дать согласие на то, чтобы поместье перешло после ее смерти соседям – так она хотела отблагодарить этих людей за их многолетнюю помощь. Воля Анастасии Евграфовны была исполнена. А впоследствии всем стало известно, что семья французских крестьян была настолько потрясена жестом русской старухи, что вскоре приняла православие – всем домом.
С фамилией Роуз, которая досталась матери Петра от первого брака, была связана уже другая эпоха его жизни. Семья и предки матери – тоже русского происхождения и тоже очень смешанного, но аристократического, с примесью финских и шведских кровей – давно осели в Англии и давно утратили всё русское. В годы войны отец Петра находился в Англии, служил в Красном Кресте. Оттуда, из Бирмингема, он и вывез во Францию свою будущую жену, в то время подданную Великобритании.
Петру с малых лет было известно, что мать – женщина особой породы. Наделенная сильным, не женским характером, она жила по своим собственным законам: домашняя жизнь ее тяготила, а интереса к воспитанию сына она и вовсе не проявляла. Эту простую истину Петр уяснил себе с ранних лет и уже тогда пришел к выводу, что мать недолюбливает малышей – за их дитячью бестолковость.
Ему было пять лет, когда у родителей возникли подозрения по поводу его отставания в развитии. Он отказывался говорить. Недуг развивался на фоне явных неладов с голосовыми связками. Голос срывался, и снадобья от горла, которыми его пичкали с утра до вечера, не помогали. Объездив местных врачей, но ничего так и не добившись, мать повезла его к знаменитому логопеду, жившему в Лионе. Логопеду не потребовалось и пяти минут, чтобы выявить причину аномалии: отклонение развивается на почве нервного стресса. Лионский логопед принялся лечить недуг сеансами пения: заставлял наизусть разучивать басни Лафонтена и петь их под произвольные, на ходу сочиняемые мелодии. Вертягин-старший считал, что никакого отклонения у сына нет. Отказ ребенка говорить был, по его твердому убеждению, следствием беспрестанной смены языковой среды, поскольку в жизни мальчика постоянно смешивались три языка – русский, французский и английский…
И чем выше в гору шла карьера Вертягина-старшего, тем всё более кочевой образ жизни приходилось вести семейству. Занимая различные посты в префектурах и супрефектурах, Вертягин-старший был вынужден переезжать по службе с места на место. Петру исполнилось шесть лет, когда отца из Нанта направили в Сен-Лоран-дю-Марони, по другую сторону океана. Ехать в Гвиану, хотя и французскую, мать наотрез отказывалась. По крайней мере, предпочитала не спешить с переселением. Отклонить назначение Вертягин-старший тоже не захотел, и ему пришлось уехать в Гвиану без семьи. Он наивно полагал, что жена с сыном не выдержат долгой разлуки.
Жизнь Петра теперь проходила в разъездах между югом Франции и Англией. Мать возила его к тетке и к своим родителям. В это же время в отношениях между родителями наметился первый серьезный разлад, и это не могло не сказаться на воспитании малолетнего отпрыска. Петр оказался предоставленным самому себе, улице и на глазах обрастал всеми законными атрибутами тротуара: научился плеваться, как портовый рабочий, мог содрать шкуру с кота, участвовал в заговорах против местного кюре, употреблял выражения, от которых мать и веллингтонская тетка, родная сестра матери, дружно закашливались за столом, поперхнувшись от ритуального за ужином супа-пюре, а однажды он даже чуть не утонул в местной речушке…
Веллингтонская тетка взяла на себя хлопоты по определению отпрыска в приличную школу-интернат, где-нибудь неподалеку от Бристоля. Ради упрощения – чтобы племянник не выглядел белой вороной, или из-за оплошности, допущенной теткой при оформлении бумаг, которую задним числом невозможно было поправить, Петр был зачислен в интернат как Питер Роуз.
В один прекрасный день он был доставлен в незнакомую ему городскую чайную. Тщательно накормленный тортом с сиропом, от услады пьяный, он был усажен в пухлый таксомотор, который отливал темным лаком, как когда-то отливал гроб бабушки, и через полчаса такси доставило их с матерью к вратам его будущего заточения.
Одет он был с иголочки. Впервые в жизни на нем был галстук. Новая темно-синяя пара была отутюжена теткой до такой степени, что он боялся делать широкие шаги. Сжимая в правом кулаке ручку нового кожаного чемоданчика, от которого исходил запах чужого города и новой жизни, запах чего-то невыразимо горького и неотвратимого, он казался сам себе новым с ног до головы и каким-то ненастоящим. Но главные трудности ждали впереди: ему надлежало привыкать к новому имени.
Отныне он был не Петей, не Пьером и даже не Вертягиным, а Питером Роузом… Ласково заглядывая ему в глаза, мать повторила это новое имя и фамилию несколько раз подряд, пытаясь убедить его в том, что в них нет ничего неблагозвучного. Такси еще не отъехало, мать еще не успела закончить свои напутствия, а он уже понимал, что значит быть сиротой. Окаменев от страха, в этот миг Петр думал об одном: как бы по его лицу не покатились слезы, как бы опять не показаться матери «бестолковым».
В закрытой школе Петр провел не год, как обещали родители, а два года. Когда его, наконец, востребовали назад во Францию и окружающие вновь стали обращаться к нему как к Пьеру Вертягину, он озирался по сторонам, спрашивая себя, не спутали ли его с кем-то другим…
Петр считал отца человеком покладистым, легконравным, но не по натуре, а как бы по необходимости, как бывает иногда с людьми, которых изводит их же собственный характер и не поддающаяся обузданию сила воли. Легконравие, а иногда и просто добродушие, объяснялись в нем отсутствием выбора. Отец чувствовал себя вынужденным делиться с близкими тем, что он сам был бы не прочь получать от окружающих, но в то же время не мог на это рассчитывать, какие бы ни прилагал для этого усилия. Это оказывалось невозможным в силу его превосходства над окружающими, его болезненной неспособности довольствоваться добрыми чувствами к себе людей неравных…
Некоторые тонкости душевного склада отца поражали Петра с раннего детства. Сам Вертягин-старший утонченными сторонами своей натуры тяготился, понимая, что благодаря этим качествам он и располагает к себе людей, но тем самым делает их от себя зависимыми. В этом крылась одна из причин, заставлявшая его всегда и во всех случаях жизни стараться выглядеть проще, чем он был в действительности. К старости ему удалось довести в себе этот стиль поведения до такого совершенства, что на пороге собственного дома его легко могли принять за слесаря из аварийной службы.
Отец Петра прожил жизнь, ни разу по-настоящему не поступившись своими принципами. Сложный настой его убеждений был замешен не столько на протестантском воспитании, полученном от родителей, сколько на доморощенной философии, которая представляла собой некий отцеженный концентрат всевозможных идей «воздержания» и «умеренности», начиная с протестантских (хотя протестанты и не считали предосудительным, пока суд да дело, устраивать свою бренную жизнь с наименьшими тяготами) и заканчивая «антропологическими» теориями послевоенного времени, с упором на предрасположенность рода людского к бойням и разрушениям. Стоило добавить в эту смесь щепотку сентиментальности, ароматно наперчить ее любовью к ближнему, и получалось нечто такое, что могло бы сойти за внутреннее благородство, в какой-то редкой необычной форме, если бы всё это можно было ежедневно использовать или хотя бы просто по-человечески терпеть.
Петр был еще подростком, но инстинктивно уже понимал, что мать его создана для другой жизни и что здесь вся суть разногласий между родителями. Оба они требовали друг от друга невозможного. Отношения между матерью и отцом были страстными, как между молодоженами. У Петра доли сомнений не было в том, что мать питает к отцу глубокое, полное самоотречения чувство, с безнадежностью и внутренней преданностью пронеся его как жертву через всю жизнь, и что она оставалась преданной ему даже после того, как они разошлись и жили врозь, вплоть до его кончины. Но в ее любви недоставало женской кротости. Так же как в любви отца недоставало обыкновенного мужского великодушия.
Родители развелись, когда Петру было шестнадцать лет – отец служил в это время в посольстве в Брюсселе. Не прошло и года, как мать вновь вышла замуж – за сына известного в сороковых годах писателя. Новый муж был ее моложе на десять лет. Мать поселилась с ним в Бургундии, начала и сама писать прозаические опусы – не иначе как под влиянием родовых традиций нового мужа. Позднее они переселились на Джерси, жили на острове большую часть года, и в это время мать издала свой первый «розовый» роман. Как только он появился в свет, она разослала экземпляры родственникам и этим поступком не одному из них подкосила здоровье: родственники восприняли выход опуса как личное оскорбление, тем более что в качестве «материала» мать использовала всем известные семейные эпизоды, значительно их подсолив. И если бы она не воспользовалась псевдонимом – под этим поклепом на свое прошлое мать поставила подпись «Гертруда Шейн», – родственники добились бы через суды ее сожжения на костре.
Единственным из всех, кто отреагировал на событие целомудренно, был отец Петра. Перелистывая книгу, он хохотал и даже находил ее «занятной». Роман был написан по-английски и вышел во Франции мизерным тиражом. Аналогичная участь ожидала все книги матери, вышедшие из-под ее пера и позднее.
Просматривая первую книгу матери, красиво изданный миниатюрный томик в двести страниц, Петр больше всего поражался следующему сопоставлению: коль скоро мать разбиралась в «вечном» вопросе с таким гурманством, получалось, что и сам он был обязан своим появлением на свет изощренному излиянию чувств между людьми, «любившими друг друга для того, чтобы мучить или не измучиться вконец друг без друга…» – такими откровениями мать озадачивала с первой же страницы. Петр не мог в это поверить. Родители были для него такими же нормальными людьми, как и большинство окружающих, и в своем отношении к «вечному» вопросу производили впечатление людей скорее чопорных, чем раскрепощенных, эмансипированных…
Долго не протянул в холостяках и Вертягин-старший. Но в отношениях со слабым полом ему не везло всю его жизнь. Вертягин-старший женился в общей сложности трижды. Эта сторона жизни отца стала Петру по-настоящему понятной лишь с годами. Отец был влюбчив, как герои старинных светских романов. Платоническое брало над ним верх вопреки его воле, являясь следствием чрезмерной совестливости. Слабый пол покорял его прежде всего своими «слабыми» сторонами, нуждой в защите. И он каждый божий раз попадал в эту ловушку, несмотря на то, что в душе испытывал более здоровые, более реалистичные потребности, чем те, которые считал для себя обязательными…