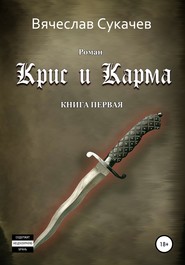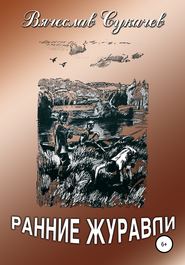По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Спутница по июньской ночи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не хочу.
– Как же – не хочешь? – всполошилась Аглая Федоровна. – Завтрак – не мамина прихоть. Завтракать надо обязательно, это непреложное условие для всякого, кто хочет сохранить свой желудок в здоровом виде…
– Аглая Федоровна права, – рассеянно поддержала подругу мама.
– А вы знаете, как солдат генералу яичницу жарил? – ухмыльнулся Феликс, разливая в фужеры сухое вино. – Он, значит, спрашивает генерала: вам яичницу приготовить или глазунью? Генерал глаза вытаращил: а какая, мол, разница? Да такая, говорит солдат, что когда глазунья – берут яйца и бьют о сковородку. А вот когда яичница – наоборот…
Завтрак проходит в неспешных разговорах, необязательных репликах, крутящихся все вокруг одного – предстоящей лыжной прогулки. Но уже ни у кого нет вчерашнего подъема, никто не горит желанием поскорее разделаться с завтраком и встать на лыжи. Даже Аглая Федоровна как-то сникла и стали заметнее мелкие морщинки в уголках ее глаз. Отец же и вообще неуверенно заметил:
– А я, собственно, хотел сегодня полистать журналы…
Но тут мама неожиданно категорично заявила:
– Эрик, в таком случае я тоже не иду не прогулку.
– Ох, уж эти мне прогулки, – тяжело вздохнул отец и пошел наверх переодеваться в лыжный костюм.
X
Неумело размахивая палками, последним по лыжне уходит отец. Настена некоторое время медлит у калитки, а потом круто разворачивается в сторону леса.
Под грузом выпавшего снега отяжелели и сникли лапчатые ветви кедров. Густые вершины вечно моложавых пихт и елей оделись в пушистую кухту. А тонкие и ломкие на вид веточки берез превратились в волшебно искристые пряди из сверкающего инея и снега… На посветлевших липах и осинах яснее стали выделяться курчавые, зеленые шары омелы, похожие на большие птичьи гнезда, щедро усыпанные бусинками оранжевых плодов…
Однажды Настена сорвала такое «гнездо» и с любопытством переломила жирно-зеленую веточку, неожиданно упругую, со светло-волокнистой мякотью внутри. Что-то отталкивающее и неприятное даже на взгляд было в этой омеле, уже успевшей иссушить молоденький ствол поблекшей осинки. Морщась и страдая, Настена брезгливо отбросила ядовито-зеленый клубок, лохмато покатившийся на дно неглубокого оврага…
Когда Настена свернула на свою поляну и увидела безобразно высокий, в белых потеках содранной коры еловый пенек, она лишь глубоко вздохнула и долго смотрела прямо перед собою. Ей показалось, что лес потемнел, деревья сгорбились и отвернулись от нее, и даже старый пень, еще вчера так задорно – задиристо разглядывавший ее, поглубже надвинул снежную шапку, словно бы не желая встречаться с ее глазами. Настена вспомнила елку, стоявшую посреди их двора, вспомнила слова, выложенные игрушками с этой елки, молча развернулась и медленно побрела в сторону дачи.
– Настька! Ты где пропала? – встретил ее возле дачи весело улыбающийся Миша, поправляя красную шапочку, лихо сбитую набекрень. – Я уже весь лес объездил, а тебя нигде нет.
Настена молча прошла мимо него.
– Настя! Ты чего? – удивился Миша. Он забежал вперед и заступил ей тропинку.
– Ничего, – тихо ответила она.
– Кончай губы дуть. Поехали на горку.
– Ты читал? – спросила Настя, глядя мимо Миши.
– Что? – не понял он.
– Там, возле елки…
– А что там? – Миша удивленно покрутил головой.
– Сходи и прочитай.
Настена отстегнула лыжные замки, обошла Мишу и взошла на крыльцо веранды.
– А на горку? – крикнул Миша, растерянно шаркнув варежкой ниже носа.
Покачивался замок на дверной ручке, где-то в снегах утонуло короткое эхо, да сорвалась откуда-то небольшая стайка снегирей, веером разлетевшись по лесу.
XI
Домой они возвращаются поздно вечером. При свете фар дорога кажется незнакомой, ведущей в чужой город, с множеством домов, расцвеченных сквозь плоские окна всеми цветами радуги. И как-то не верится, что за всеми этими окнами находятся люди, очень много людей, отгороженных друг от друга тонкими кирпичными простенками, узкими дворами и широкими улицами…
Заканчивается выходной день, и люди торопятся прожить его, чтобы завтра с утра начать новый.
– Один профессор приходит в зоопарк, – говорит за спиною Настёны неугомонный Феликс, – и видит там шимпанзе…
Если посидеть несколько минут с закрытыми глазами, а потом резко открыть их – огни домов как бы бросаются тебе навстречу, и тогда в самом центре этих огней можно разглядеть пугающе – тяжелую и призывную глубину картин Айвазовского… Люди давно подметили и любят сравнивать все необычное, мало понятное им с глубиной: глубокий простор, например, глубокая тишина, глубокий сон… Глубокий простор – это когда смотришь с вершины горы и видишь, как до самого горизонта петляет речка Грустинка, без устали приглаживая мелкий приречный песок… Глубокая тишина – это когда под козырьком веранды вдруг замолкают мама и Мишин папа, так похожий на шкаф… Глубокий сон – это её Северное Сияние, ее царство с верными подданными -снежинками, над которыми без конца и начала…
– Настенька, девочка, обязательно приходи на новогодний утренник, – Аглая Федоровна трогает ее за плечо. – Я на тебя очень рассчитываю… Смотри, не подведи меня. Непременно перечитай современную сказку, что я тебе дала в прошлый раз. Там очень много умного, интересного в познавательном отношении… Договорились?
Перед въездом на городскую площадь машина останавливается, и все идут прощаться с Горелкиными. Настена видит, как закурили мужчины, как Мишин папа обошел свой «джип» и попинал все четыре колеса… Потом все вернулись, кроме Феликса, и дальше их машина поехала уже одна.
– Нет, Сашенька, это невозможно, – горячо шепчет за спиною Аглая Федоровна. – Он не может не понимать, в какое положение ставит меня своим поведением. В конце концов – нас видят дети! Я не могу этого не учитывать…
Настена потянулась и включила радио. Передавали хорошую музыку. Что-то грустное, похожее на продутую ветрами поляну, без стройной красавицы-елки, неумело срубленной Мишей Горелкиным. И так голо смотрелись теперь чьи-то тройчатые следы, наискось пересекающие поляну…
Подрулив к подъезду, отец остановил машину, и устало откинулся на спинку сиденья: ночью, из-за близорукости, ему особенно тяжело водить машину.
– Все, приехали, – хрипловато сказал он.
– Настя, доченька, захвати продуктовую сумку, – попросила мама, подхватывая рюкзак. – Только осторожнее, не разбей термос.
И лифт поднимает их на пятый этаж. Сухо выщелкивается черная пуговка кнопки, распахивается полосатая дверь, приглашая покинуть зависшую над пятиэтажной бездной пластмассовую клетку.
– Слава богу, наконец-то мы дома, – облегченно вздыхает мама, перешагивая порог квартиры.
В доме какая-то странная, незнакомая тишина, холодно и враждебно притаившаяся во всех трех комнатах, и лишь на кухне у подоконника призывно белеет табуретка, оставленная Настёной вчера. В самом деле – прошло немногим больше суток. А кажется, что…
– Настенька, доча, я уже набрала тебе в ванну воды.
На улице тихо и темно. У табачного киоска под фонарём останавливаются два человека. Он приваливается спиною к киоску и осторожно обнимает спутницу. У нее дорогая соболья шапка, холодно поблескивающая мертвыми ворсинками. Настене почему – то кажется, что эти ворсинки похожи на еловые иглы, которые тоже уже мертвы на елке, одиноко стоящей во дворе их дачи…
– Настенька, вода стынет.
И все продолжал падать на светло-голубую морскую гладь пучок света от невидимой луны. И бездонная глубина угадывалась среди волн простой копии с картины Айвазовского…
Интеллигент в первом поколении
Анатолию Бабаеву
I
Вера Николаевна Калашникова заканчивала прием, когда ее позвали к телефону. Она извинилась перед маленьким, седеньким старичком, носившим старомодное пенсне, и пошла в ординаторскую. Звонил Калашников. Он густо прокашлялся, подул в трубку (отвратительная привычка!) и нерешительно спросил: