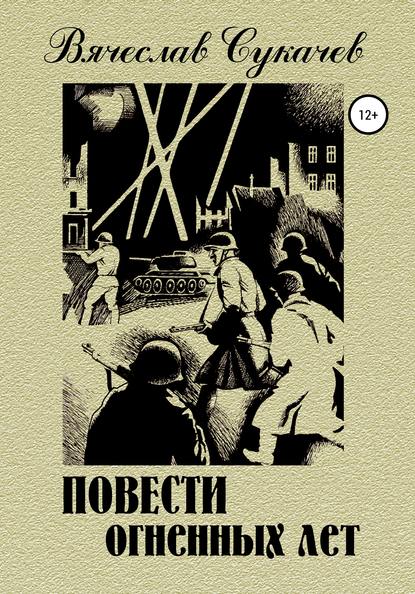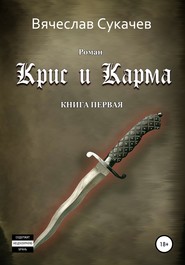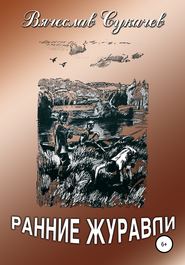По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести огненных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дам. У меня её с прошлого года ещё три банки стоит.
– Будь ласка, дай, как-нибудь сочтемся.
Серафима сходила и принесла деду черемухи.
– Слышь, Серафима.
– А?
– Эта… заноза, говорят, опять тебя поносила.
– Да бог с ней, – отмахнулась Серафима.
– Горбатого, видно, могила исправит, – удивился дед Никишка. – И чего ей ещё от тебя требуется? Мужа сманила, дочери начисто лишила, а все ярится. Чудно… Говорят, оркестр из района заказала.
– Зачем?
– А шут его знает. Теперь вроде бы всех при музыке хоронят, вот и она захотела. Конечно, денег много надо, да у нее-то их куры не клюют. Сама-то пойдешь?
– Пойду.
– Сходи. Пусть еще немножко побесится.
– Да я ведь не потому пойду…
– А и потому тоже сходи, – строго сказал дед Никишка, – пусть не располагает, что она тебя вконец одолела… Поясница ноне болит, с самого утра так и ломит, к дождю, что ли?
– По радио не говорили.
– Так они потом скажут.
– Не надо бы его сейчас.
– Знамо дело… Ишь, куют мужички. И Осип не пьяный… Сколько Матвею-то сполнилось?
– Пятьдесят седьмой пошел.
– Молодой ишшо.
– Нестарый.
– До моих годков-то жить да жить.
– Что делать, она не смотрит на годы.
– Не смотрит. Я вот зажился, а ничего, бог милует.
– Живите.
– А то, поживу еще годков пять. Ну, ладно, Серафима, спасибо за черемуху. Пойду старуху лечить. Чего надо – прибегай.
– Прибегу.
– Покурите, мужики, замаялись, – задержался дед Никишка у калитки.
– Нанимай нас, дедушка, мы тебе дачу отгрохаем. – Никита ловко поддел ломиком столбик и, довольный, посмотрел на деда.
– Вас найми – не расплатишься. Только напоить – Амура не хватит.
– А мы щелбанами возьмем, не дорого.
– Так я ведь не поп, – нашелся дед Никишка, покхекал от удовольствия и не спеша направился домой.
– Слышь, Никита, – повеселел Осип, – давай уж заодно и этот… ну, сортир что ли, отшаманим.
– В один момент.
– Осип, – окликнула Серафима, – а ты бы Мотьке ограду-то все-таки отремонтировал, а?
– Сделаю, – пообещал Осип.
– Так сделай.
– Ну, не сейчас же. Потом…
Уже сумерки опускались над Амуром и где-то далеко, за высокими сопками, вспыхивали и мгновенно гасли зарницы, когда Никита весело сказал:
– Ну, Сима, принимай работу…
Глава тринадцатая
Ночью пошел дождь. Серафима проснулась и слушала, как монотонно, уже по-осеннему, барабанит он в окно, по шиферной крыше, как из слива на правом углу дома падает вода в бочку и, выплескиваясь через край, стекает в огород. Хорошо было под одеялом, уютно в такую-то мокрядь, и Серафима покойно лежала с широко открытыми глазами. На диване, укрывшись с головой, посапывал Никита. Привычка, наверное, оставшаяся у всех фронтовиков. А вот Серафима такому сну не обучилась – стоило прикрыть голову, как она задыхалась, ей не хватало воздуха, и лучше уж яркий свет, чем это неприятное ощущение задушенности, как при беге в противогазе.
Потом Серафима вспомнила, что завтра похороны, и опечалилась. Даже и не завтра уже, а сегодня, так как внизу, в Покровке, отпели первые петухи, басовито прогудел рейсовый почтовый водомёт из райцентра. Да, сегодня уже, и мало хорошего в том, что на самом исходе лета занудел этот дождь – расквасил землю, затопил мари по берегам Амура – ни рыбы теперь не взять, ни ягоды. Но главное, конечно, похороны. Оно и так на душе муторно, а в такую занудную погоду и подавно. Хорошо хоть копали вовремя управились, а ещё лучше, если догадались прикрыть чем-нибудь могилу. Хоть и мертвый человек, а все одно в мокрую могилу не с руки его класть.
И опять ненароком припомнилась ей война и то, как хоронили боевых товарищей в воронках, окопах, торопливо присыпая землей, торопливо, если были патроны, салютуя, не всегда успевая поставить фанерный обелиск со звездой, и тогда над холмиками земли оставалась простая каска или пилотка, и уже те, кто шел следом за ними, не знали, кто здесь похоронен и как смерть от войны принял… И сколько их, таких-то вот безымянных могилок, земляных холмиков под пилотками и касками осталось на земле. И всех приняла земля, и новых людей взамен дала, и кому ведомо, лучше они тех, что под холмиками, красивее или же не удались статью, не вызрели душой. Кому это ведомо – никому… Они выросли без войны, и, слава богу, научились жить хорошо, и от жизни много требовать, и это не беда, пусть требуют, пусть живут в счастье и радости, потому как на этот век бед и зла и без того достаточно было. Только бы не забывали, что это счастье беречь надо, беречь пуще своего глаза и жизни своей, потому как добывалось оно слишком дорого, чтобы растерять его за здорово живешь, по лености или тугодумью.
Фронтовиков-то, прав Никита, все меньше остается, рано уходят они, чаще всего и до пенсии не доживают, слишком много сил пришлось им отдать в те четыре года. А кто еще, как не сами фронтовики, могут рассказать о войне всю правду. И такие рассказы никакие фильмы не заменят, никакие книги не осилят, как бы хорошо там все ни писалось и ни показывалось. Только на ее, Серафиминой, памяти, сколько случаев таких было. Пусть знают все. И то, как трупы молевым сплавом по рекам шли, и то, как в разведку боем ходили, и как прорвавшихся из окружения солдат встречали… Был случай, спрашивает ее Колька Кадочкин: мол, тетя Сима, цветы-то вам дарили на войне или нет. А она вот что-то за всю войну и цветов не припомнит, и бог их знает, были они тогда на земле или нет. А даже и были, то какие же это цветы, если они из крови всходили, если вся земля этой кровью и железом как губка напиталась…
Серафима заворочалась, захотелось ей курить, но она боялась дымом потревожить сон Никиты и перемогла, стерпела это желание и опять прислушалась к дождю, и припомнилось ей с болью, сколько таких-то вот сиротливых ночек пережила она за свою жизнь, одиноко ворочаясь в постели и с грустью думая о том, кого уже давно не было на земле, да и в самой-то землице вряд ли чего осталось. И, казалось, затаить бы ей обиду на неудавшуюся свою жизнь, на тех, кто лучше устроился, кто быстрее от войны сумел отойти, и от памяти о ней, но нет, не было такой обиды в Серафиме, никогда не приходила она к ней, даже в самые горькие минуты, даже в самые тяжелые часы. Она сама, без принуждения и натуги, выбрала свой удел и сама, без жалоб и сетований, справлялась с ним. Только однажды… Да нет, и однажды не было. Было что-то жалостное, скорее, материнское, чем бабье.
Тот мальчик-председатель, бывший комсомольский работник, Сергей Иванович Козлов, вдруг начал больно сильно заботиться о ней. Придет она домой, а во дворе целая машина дров лежит, напиленных и наколотых, в другой раз кто-то сарайку перекроет, огород вскопает. А однажды и того чище – два кубометра теса завезли, потом из этого теса летнюю кухоньку соорудили, и опять без её ведома. Она ещё и в толк ничего взять не успела, а по селу уже слухи пошли, и Матвей вдруг разом перестал с нею здороваться. Тогда Серафима пошла к председателю. Шла сердитая, готовая наговорить ему черт знает чего, даже из колхоза выйти, но как вошла в кабинет и увидела густой румянец на председательских щеках, его виноватые и покорные глаза, так все разом из головы и выскочило. От его смущения и сама смутилась, так как в деле хваток был молодой председатель, тверд и строг. Спросила его:
– Это вы всё?
Он кивнул и стул ей подставлять бросился.
– Зачем?