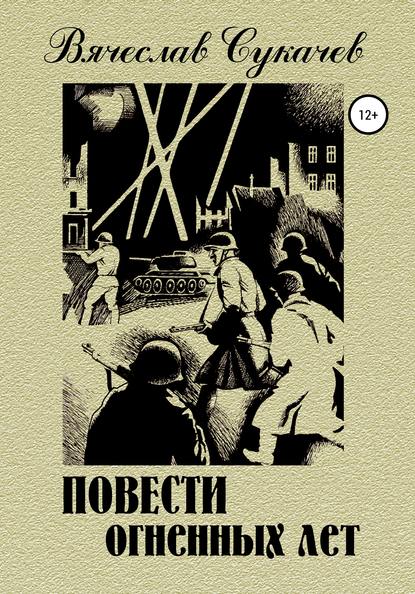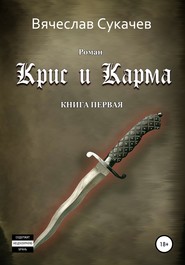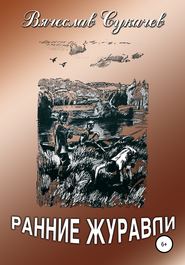По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести огненных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Многое встало за эти минуты перед ее глазами: полустершиеся черты лица дочери, яма в лесу под выворотнем, в которой она ночевала на пути к фронту, удивленный взгляд Пухова, немецкие танки в широком осеннем поле, умирающий глаз ездовой лошади, веселая и добрая улыбка свёкра, аккуратные улочки Магдебурга, белесые ресницы Матвея, смех Оленьки, оторванная рука Коли Бочарникова, Осип на палубе парохода, вой авиабомбы и лениво-спокойный Рыбочкин, мелкие морщинки тётки Матрены и холодные губы угоревшей матери, разбитые фермы моста через Днепр, широкая ладонь отца, мертвые дети в затопленных подвалах, жаркий лязг гусеницы над головой, Оленька с куклой, пикирующий бомбардировщик, спокойное и бледное лицо Пухова, русский танкист, вспыхнувший факелом и с жалобным стоном покатившийся по траве, ее молоко на щеках Оленьки, шинели на колючей проволоке, простреленный портрет человека с косой челочкой и ослепительные вспышки ракет над Днепром… Серафима медленно сползла с чемоданчика, легла в траву, уткнулась лицом в землю и заплакала. Она плакала за всё и за всех, и за себя в первую очередь. Плакала безысходно и долго, как могут плакать лишь женщины, оплакивая свою незадавшуюся судьбу и готовясь к новой жизни…
По заросшей тропинке она подошла к дому, потрогала замок на дверях, поискала в бурьяне и нашла заржавленную ось от тележки, двумя ударами сбила замок, распахнула дверь и вошла. Дом был пуст, лишь в углу лежал перевернутый вверх ножками деревянный топчанчик, на котором некогда спал свекор. На полу валялись желтые обрывки газет, какие-то пузырьки, разбитая табуретка, кусочки стекла, полуистлевшие лоскутки и просто мусор. Она разгребла его ногой и увидела грязный треугольник письма. Подняла и развернула. Письмо было от нее.
«Здравствуйте, дорогие отец, Матвей и доченька Оленька», – прочитала она и не стала дальше читать, положила письмо на подоконник и задумалась. Потом решительно одернула гимнастерку под ремнем, поправила пилотку с пятиконечной звездой, достала из чемоданчика сверток и вышла из дома, оставив распахнутой настежь дверь.
Тихие сумерки опускались на землю, но красный ободок солнца еще выглядывал из-за сопок, и в той стороне плыли по небу розоватые облака, и красное зарево вставало над горами. Серафима шла, не чуя от волнения под собою ног, и словно бы пила окружающий простор жадными глазами, вдыхая с детства знакомый запах дыма от еловых дров. Она не замечала, как удивленно и любопытно смотрят на нее из окон домов старики и дети, как выскакивают они на улицу и провожают ее взглядами, перебегают от двора к двору, о чем-то перешептываясь и показывая на нее пальцем.
Она нигде не остановилась и не задержалась, а прямо прошла к дому Варьки Рындиной, уже тогда стоявшему под железом, поднялась на крыльцо и с той же решимостью, которая пришла к ней еще в своей горенке, открыла дверь.
– Здравствуйте, люди добрые, – с порога сказала она и увидела, как побледнел, вытаращив глаза, Матвей, как поперхнулась Варька и затряслась от кашля уже тогда широкая ее спина, как девочка-подросток удивленно и испуганно посмотрела на нее, потом на Матвея и Варьку. – Не ждали?
С минуту в комнате стояла тягостная тишина, потом Матвей вдруг засуетился, чуть ли не бегом принес из горницы табуретку и глухо сказал:
– Проходи, садись.
– Да я не к столу пришла, – отказалась Серафима, – а за дочерью.
Матвей растерянно помигал белесыми ресницами и посмотрел на Олю.
И тут ожила Варька. Отставив стакан с молоком, она повернулась к Серафиме, смерила ее взглядом с головы до ног и сказала Матвею:
– Тебе управляться пора. Иди. И Ольгу с собой возьми, пусть помогает.
Матвей послушно направился к двери, а следом за ним и Оля, бочком выбравшись из-за стола. Серафима с болью, неотрывно смотрела на дочь, узнавая и не узнавая ее. Некогда курносенький нос ее выправился, пропала пухлость губ и щек, она подтянулась, выросла и невольно казалась Серафиме чужой. И в то же время каждая черточка лица ее была знакома и родна Серафиме, родна до головокружения и тихих слез, и Серафима, сделав шаг навстречу и выронив сверток, из которого выпала маленькая белокурая кукла, горько прошептала:
– Оля, доченька, Олюшка!
Девочка задержала шаг, какая-то тень промелькнула по ее лицу, казалось, она с трудом вспоминает что-то, но в это время Варька строго и властно окликнула ее:
– Оля! Я чего тебе сказала делать?
Еще мгновение она смотрела на Серафиму, потом нахмурилась и бегом пробежала мимо нее.
Варька неторопливо достала лампу, протерла стекло и засветила. Так же неторопливо пошла в горницу, побыла там недолго и, вернувшись, протянула Серафиме какую-то бумажку. Это была метрика на имя Рындиной Ольги Матвеевны.
– Что это? – тихо прошептала Серафима.
– А ты не видишь? Я могу очки принести. – Варька смотрела холодно и зло.
– Но как же? – Серафима не находила слов.
– А просто, – усмехнулась Варька, – похоронка на тебя пришла, вот и как же.
– Да я ведь через месяц писала, Варя… Писала, как и что там у меня вышло.
– Писала, – кивнула головой Варька, – да поздно уже было.
– Как поздно, Варя, ведь я мать! – Серафима прислонилась к стене, потом машинально нагнулась и подобрала куклу.
– Да какая ты мать? – В голосе Варьки начали пробиваться визгливые нотки. С грохотом собирая посуду со стола, не глядя на Серафиму, она все громче и громче выкрикивала: – Какая ты мать, если ребенка своего бросила! Последняя зверюга так не поступает, как ты поступила. Думаешь, я мало мук с нею вынесла, думаешь, мы здесь от жира лопались, пока ты там воевала? Да и как ты там воевала, ещё никто не знает…
– Ты вот что, Варвара, – покраснела Серафима, чувствуя, как крошечные молоточки застучали в висках, – ты мою войну не трогай. Говори, да не заговаривайся.
– Ишь ты! – изумленно вздернула тонкие брови Варька и, вдруг бросившись к двери, сильным ударом распахнула ее. – В таком случае, дорогая вояка, вот бог, а вот порог. Выметайся, и чтобы духу твоего здесь больше не было. Выметайся, голубушка, а то ведь я на медали твои не посмотрю…
Стыдно и больно стало Серафиме, стыдно за Варьку, больно за себя. Положив куклу на стол, она прошла мимо торжествующей, кипящей от непонятной злости женщины. Но в последний момент все-таки сдержала себя и остановилась, и как могла спокойно, примирительно сказала:
– Варвара, я ведь мать ее… Неужто у тебя сердца нет? Постыдилась бы, Варя.
– Постыдилась?! – Варька задохнулась и несколько секунд стояла с открытым ртом. – Ты… ты меня стыдишь, шлюха солдатская!
И тут Серафима не выдержала. Громко застонав, она коротко и резко ударила Варьку по шее, от чего та мгновенно замолкла, вытаращив наливающиеся болью глаза, а Серафима бросилась вон из дома, боясь еще здесь, на виду у Варьки, расплакаться. Когда выходила за калитку, услышала наконец-то прорезавшийся громкий Варькин вой. В это время кто-то бросился к ней, маленький, тяжелый, повис на шее, обдавая свежим запахом черемши.
– Сима!
И тут только Серафима узнала Мотьку, неожиданно располневшую за четыре года, налившуюся ядрёной бабьей силой…
Сидели в крохотной Мотькиной избе, ели отварную картошку с черемшой и пили трофейный коньяк. Мотька, опьянев с первой же рюмки, громко возмущалась, выслушав рассказ Серафимы.
– Так она же теперь председательша, Сима, в сельсовете засела. Она, змеища, чуть чего еще и милиционера на тебя натравит. Как только похоронка на тебя случилась, вот уж она тут забегала, заегозила: в район, из района, туда, сюда, пока Ольгу на свою фамилию не переписала, не успокоилась ведь. А люди-то дураки, ей всё это ещё и в заслугу поставили. Вот, мол, Варька какая, Матвея примаком взяла, да еще и сироту удочерила. А Матвей, я приметила, вначале мучился сильно, несколько раз ко мне забегал, все спрашивал, нет ли от тебя письма. А потом, как ты написала, обрадовался, аж слеза его прошибла…
– Матвей? – не поверила Серафима.
– Ну да, Матвей, – заулыбалась Мотька, видя, что Серафима постепенно приходит в себя, и все больше интереса проявляет к ее рассказу. – Он ведь любит тебя, Сима, ещё с парней… Я же помню, как он за тобой увивался, только из Варькиных лап ему не выбраться, не на ту напал. Она его крепко связала по рукам, по ногам. Хваткая, зараза, даром что яловая, а своего не упустит.
– Да не трогай ты ее, – поморщилась Серафима, – баба же она, вот и думает, что я Матвея хочу у нее забрать… А мне Матвей не нужен, мне дочка нужна… Она это хорошо понимает, мол, пока Оля при ней, и Матвей никуда не денется. Вот и взбеленилась на меня. Ладно, успокоимся обе да все и выясним.
– Ой ли, Сима, – покачала головой Мотька.
– А вообще, Мотя, на сегодня хватит об этом! – отрубила Серафима. – Как вы тут хоть живете?
И потянулся долгий бабий разговор, за каждым словом которого чувствовалось Мотькино одиночество и Серафимина тоска по дочери, по мирной жизни, по родному селу.
Уже улеглись спать, когда Мотька тяжело вздохнула и полусонно сказала Серафиме:
– А мужиков-то в селе почти совсем не осталось, Сима…
Весть о том, что Серафима ударила Варьку в первый же день приезда, мгновенно разнеслась по селу. Мужики посмеивались и одобряли Серафиму, бабы же насторожились и к Серафиме относились сдержанно. Все они как-то мимо внимания пропустили, что Варька ведь Ольгу ей не отдала, не вернула Ольге ее настоящую фамилию и что теперь даже того не понять, кем Матвей Лукьянов приходится Ольге. Все они видели лишь одно – статную красоту Серафимы, ее необычайную славу, военную выправку и медали на гимнастерке. Сами матери, они и думать забыли, что Серафима в первую голову тоже мать. И Серафима, чувствуя этот холодок отчуждения, замкнулась в себе, затаилась, и лишь Мотьке поверяла свои горести, свою тоску по дочери.
На другой же день, сняв военную форму, Серафима облачилась в старенькое, еще довоенное платье, с удивлением обнаружив, что разучилась носить женские вещи, и, чувствуя себя в нем как-то неловко и голо, пошла в правление колхоза просить работу. В аккурат начиналась летняя путина, и её направили в посолочный цех, пообещав со временем подобрать работу более подходящую. Однако от этого обещания она решительно отказалась, и молодой председатель, Сергей Иванович Козлов, бывший комсомольский работник флота, удивился:
– Мы ведь почему, – заговорил он, слегка робея, – учитывая ваши заслуги перед Родиной…
– Не надо ничего учитывать, – оборвала председателя Серафима, – никаких особых заслуг у меня нет… А если браться за учет, так полстраны надо учитывать.
И это тоже не понравилось женщинам.
– Гордячка, – говорили они между собой, – выкомаривается. Ей почет оказывают, а она ломается, корчит из себя.