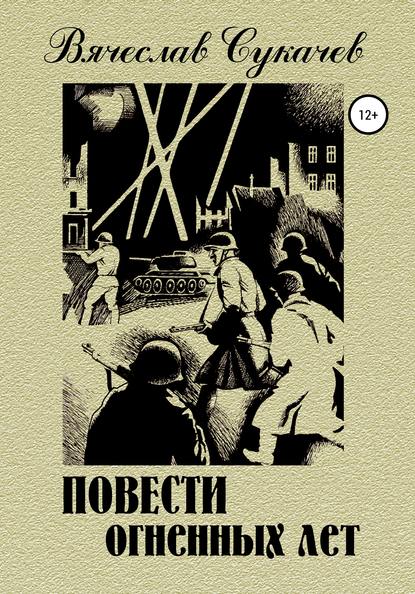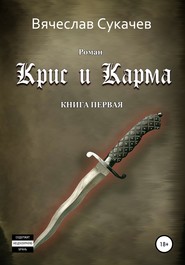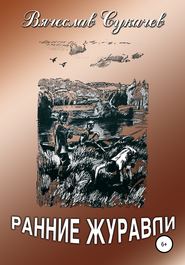По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести огненных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да уж скажу.
– Больно надо.
– Сколь за наливку возьмешь?
– Ох, Сима, не знала бы я тебя, так в глаза наплювала, – разозлилась Мотька, – мне что, деньги твои нужны? Фронтовой товарищ приехал, разве я не понимаю, а ты вчера Осипу трёшку дала, да в магазине две бутылки водки купила. Это одиннадцать рублей получается. Где же ты этих рублей наберешься, если еще и сегодня в магазин бежать? А там поминки. Небось, будешь справлять?
– Посмотрю.
– Вот твой оклад и полетит в три дня.
– Да и черт с ним!
– Не ска-ажи, – Мотька усмехнулась, – есть, пить-то каждому надо.
Так они говорили, и жарилась на плите картошка, румянцем берясь по бокам, и солнце мягко всходило над сопками, и Матвей впервые не видел его.
В первые дни Серафима редко вспоминала дом. Не до этого было. А потом вдруг случилось затишье, наша и ихняя стороны примолкли, затаились, и Серафима обрадовалась этой тишине, еще не зная, что нет ничего хуже фронтовой тишины. Что именно в это время замышляются самые коварные планы, подтягиваются свежие силы, боеприпасы, танки, артиллерия, авиация, и все это для того, чтобы сокрушительнее ударить по человеку в тот момент, когда он расслабился чуток, дом вспомнил, отошел от войны и мирной жизни до стона испить захотел. Но Серафима не знала всего этого и, устроившись в маленьком, но удобном окопчике, устало прикрыла глаза, вздохнула и… оказалась дома…
Густо и пышно взошла зелень на молодых осинках, в высоком прозрачном небе ни облачка, а над Амуром, прошивая синь воздуха, тянули на север косяки уток. Раннее утро, над Покровкой встают голубые дымы, и тянутся к небу, и растворяются в нем, а по двору бежит босоногая девочка. Серафима сидит на теплом от солнца крыльце, чистит большого сазана и смотрит на свою дочь. А Оленька вдруг встала посреди двора, насупилась, белесые волосики на лоб упали, а потом вдруг протянула к матери пухленькие ручонки, восторженно засмеялась и бросилась бежать к ней, мелко и часто переступая ножонками. У самого крыльца споткнулась, упала, хотела опять засмеяться, но тут почувствовала боль и расплакалась. Серафима подхватила Олю, и дочерина боль перешла к ней, заполнила до отказа, так что грудь спёрло и перехватило дыхание, и крупные слезы выступили на глазах.
Потом она жарила сазана в сметане, а Матвей сидел рядом и рассказывал, как этот отъевшийся черт сошел было с крючка на мелководье, а он бросился к нему и придавил животом, и сазан несколько раз подбросил его, как подбрасывает мужика молодой необъезженный конь. На коленях у Матвея сидела дочь и внимательно слушала, будто что-то понимала в этом. Серафима не выдержала и поцеловала их обоих, вначале Ольгу, потом Матвея, и Матвей вдруг вспыхнул от этой нечаянной ласки, растерялся и от растерянности буркнул привычно:
– Ну, балуй при ребёнке-то.
А потом, когда крупные поджаристые ломти сазана лежали уже в чашке, накрытые полотенцем, а Оля заигралась во дворе, наряжая самодельную куклу, Матвей обнял ее сзади, поцеловал в шею и тихо прошептал:
– Слышь, Сим, я этого поцелуя в жизнь не забуду. Ведь в первый раз этак-то, от сердца.
И она испуганно поразилась проницательности Матвея, и пожалела его, и ничего не сказала на его слова – говорить было нечего.
И еще один день пришел на память Серафиме. Уже после ночного разговора и после того, как ударил ее Матвей, был этот день. Оля спала. Серафима что-то шила, то и дело забывая про иголку и уходя мыслями в себя. Пришел на обед Матвей, и по тому, как он долго топтался на крыльце, сердито и громко прикрикивал на Пальму, Серафима догадалась, что Матвей пришёл выпивши и хочет с нею говорить. Она не испугалась и не удивилась, лишь затосковала сердцем и, отложив шитье, начала накрывать на стол.
Матвей ел мало и неохотно, пристально, словно впервые, приглядываясь к ней. А потом сразу, толком не прожевав, сердито спросил:
– Значит, пойдешь?
– Пойду, Матвей, – как можно спокойнее ответила она.
Матвей помолчал, тяжело уставившись на нее из-под белесых ресниц. Его нижняя толстая губа обиженно оттопырилась.
– Меня защищать? Спасибо, дорогая женушка, спасибо. Выручила. Только вот чего я тебе скажу, Серафима: как пойдешь, так больше в дом и не вертайся. Не будет у тебя дома, меня не будет и дочери не будет. Ты вот это запомни и еще раз подумай, помозгуй маленько, раз такая умная выискалась.
– Почему же, Матвей, ничего у меня не будет? – тихо спросила она. – Я ведь не на гулянье прошусь. Война идет. Немец, слышь, к Москве подбирается. И мне сидеть здесь, тебя утешать – невмоготу.
– Я вот и чувствую, что ты солдат собралась утешать…
Серафима побледнела. До боли стыдно ей стало от Матвеевых слов, но она сдержалась, пересилила себя и спокойно ответила:
– Ты чего замечал за мной, Матвей? В девках или когда с тобой жила? Чего молчишь-то, скажи? Я, если тебе изменю, Матвей, я сама уже в дом не вернусь. И ты меня не стращай. Незачем. Плохо ты ещё меня знаешь, если такие пакостные мысли обо мне у тебя в голове сидят…
Матвей слушал и хмурился, и крутил одну самокрутку за другой, и она чувствовала, что слова ее доходят до него, не сразу, но доходят. Ничего не ответив, он резко поднялся с табуретки, и по тому, как вышел из дома, крепко пристукнув дверью, и как побагровела его сильная короткая шея, Серафима поняла, что нет, не отпустит ее Матвей по-хорошему, и думать нечего, убьет, но не пустит. И, глядя ему в спину, она вдруг ощутила легкий холодок решимости, почувствовав уже наперед, что обязательно уйдет на фронт, теперь – любыми путями уйдет…
Серафима очнулась, открыла глаза. По линии фронта всё еще стояла тишина. И впервые вдруг стало тревожно ей, и сразу же заломило виски, заложило уши, гулко, больно заколотилось сердце. Она выглянула из окопчика и удивилась, когда вместо орудий увидела брошенную траншею, пустые снарядные ящики и чей-то забытый котелок. Серафима растерялась, беспомощно оглядываясь кругом, и в это время увидела бегущего к ней Никиту Боголюбова. Еще издали он делал ей какие-то знаки рукой, и лицо его было непривычно сердитым.
– Ты чё, девка, – свалился в окоп Никита, – жить надоело?
– А что? – растерялась она.
– Ядрёна шишка, она еще спрашивает, – вытаращил глаза Никита, – да ты посмотри, не сюда, а вот сюда посмотри. Вот, вот, посмотри.
– Мамочки, – прошептала Серафима и невольно сжалась под шинелью.
По всему полю, куда только хватало глаз, ровными порядками, через равные интервалы, шли немецкие танки. Земляные фонтаны взрывов вставали между ними, но очень редко и неточно, и танки, казалось, совершенно не обращали на них внимания.
– Ну, бежим! – дернул ее за руку Никита. – Сейчас тебе еще лейтенант всыплет.
Но лейтенанту Пухову было не до неё. В самый последний момент, переместив батарею на левый фланг, он теперь с холодным любопытством ожидал, куда пойдут танки врага. Если к лесочку, в сторону старой колхозной риги, – его маневр можно будет считать удавшимся, так как танки пойдут мимо его сорокапяток боком, и тут еще бабушка надвое сказала – кто кого. Если же повернут на север и ударят в лоб батарее… Что ж, и тогда воевать надо будет. И он вначале в бинокль, а потом и просто так, пристально следил за танками.
Лейтенанту Пухову перед войной исполнилось двадцать пять. То, что в мирное время он осваивал и постигал пять лет, но так и не сумел постигнуть окончательно, совершенно отчетливо усвоилось им за два месяца войны. За два месяца он самостоятельно обучился хитрости по отношению к врагу, он сумел быстро забыть правила учения и еще быстрее усвоить правила войны. И он, лейтенант Пухов, стал хорошим командиром противотанковой батареи, еще не сознавая этого.
Танки пошли к риге, где редко залегла голодная пехота, ощетинившись штыками и бутылками с горючей смесью. Не зная положения фронта в целом, лейтенант Пухов, поджарый, симпатичный курянин, решился драться до конца и положить здесь голову, но не уйти с позиций.
– Твое место вот здесь! – наставлял Никита смущенную Серафиму. – Сиди здесь и не высовывайся. Когда будет надо, я тебя кликну.
– Мне бы винтовку, – робко попросила Серафима.
– Ну? – удивился Никита. – Не дам. Побьешь все танки, а нам чего делать? Ты лучше вот что запомни, здесь, впереди тебя, первое и второе орудие, а там вон – за лесочком – третье и четвертое. Если что… случится, дуй туда. Уяснила?
– Уяснила…
Никита ушел к своему расчету, и она осталась одна, и хоть стояли орудия метрах в двадцати от нее, Серафима вдруг почувствовала себя одинокой и брошенной всеми. Потом земля качнулась, дрогнула, словно бы приподнялась под ее ногами и ушла в сторону, и снова возвратилась на место, и с этой минуты Серафима начала какую-то новую жизнь, в которой значение имели лишь память и рассудок. Пересиливая неожиданно острое, еще мало ведомое ей чувство страха, после каждого взрыва она высовывалась из окопчика, боясь не услышать, когда ее позовут. Пыль и копоть стояли над землей. Она с трудом различала орудия впереди себя и лишь по ярким вспышкам определяла, что первый и второй расчеты ведут огонь по немцам. Сколько прошло времени – она не смогла бы сказать, но вдруг ясно, с какой-то удивительной твердостью поняла, что ей сейчас надо быть там, возле орудий, Никиты и Пухова.
Выбравшись из окопчика, она вжалась в землю, как вжимается в нее под артобстрелом всякий, даже не обученный этому специально человек, и быстро поползла вперед. Остальные события этого дня как-то спутались и смешались в ее голове. Забыв про взрывы, не обращая на них больше внимания, она подносила снаряды, помогала разворачивать орудие, всей своей силой, злостью и упрямством упираясь в теплый щит, видела лишь эту, ставшую близкой и понятной, пушку и совершенно не смотрела на поле боя. Что-то непонятное удерживало ее от этого.
Когда осколком в висок убило заряжающего первого орудия Ваню Лапшина, она встала на его место. И она уже знала, что и как ей надо делать, и делала это быстро, точно и уверенно. Где-то среди разрывов, грохота и стона снарядов, противного, заунывного воя авиабомб, она поймала неожиданно удивленный и вопросительный взгляд Пухова. Он словно бы впервые увидел ее и теперь хотел знать, как и почему она оказалась здесь. И с этой минуты вся ее жизнь, смысл этой жизни и суть ее приобрели какое-то новое значение…
Бой закончился вечером, и никто не знал, на чьей стороне осталась победа. Но что-то малодоступное разуму, неподдающееся ему, говорило солдату, что он был сегодня сильнее.
Среди боя, в отступлении и смерти, утопая в земле под гусеницами танков и растворяясь в воздухе от прямого попадания, русский солдат обрел вдруг то великое дыхание, которое довело его до Берлина. Еще впереди были стылые московские окопы, Синявинские болота, Охтинский плацдарм, еще лишь начинался голод в Ленинграде, а солдат уже почувствовал то удивительное единение и сплоченность, которые приходят к народу нашему в беде и лихолетье и не оставляют его до той поры, пока не вздохнет освобожденно и радостно сама земля русская. Еще лишь отливались пушки, из которых предстояло дать первые залпы наступления, еще и смутно не прорисовывался и не ожидался план окружения армии Паулюса, а русский солдат уже догадался и сердцем почуял – быть великим делам.
Бой закончился, и от тридцати человек батареи Пухова едва осталась половина. И тут же, под крохотным увальчиком, рыли могилы, склоняли головы и уходили солдатские сердца в землю, чтобы взойти когда-нибудь радостным детским смехом на этой же планете.
– Спасибо, боец Лукьянова, – сказал Пухов, устало и опять вопросительно глядя на неё.
– У вас, товарищ лейтенант, кровь на шее, – ответила она.
– Пустяки. От этого не умирают. Раненых много?