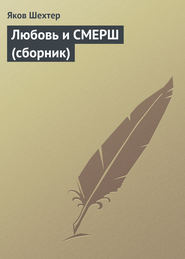По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хождение в Кадис
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И еще запомни – жизнь возле князя похожа на перевертыш. Сегодня ты здесь, завтра там. Сегодня в черной избе – завтра в белокаменных палатах. Ни о чем не сожалей, служи верно и помни: для этого ты родился, для этого воспитан. Вот тебе мое благословение.
Онисифор перекрестил ученика, повернулся и пошел по дороге. Он почти скрылся в голубой дымке, изрядно уменьшенный расстоянием, а Афанасий все смотрел ему вслед. Вместе с этим стариком уходили его детство и юность, уходили семья, дом, уходило теплое прошлое, оставляя его в холодном настоящем. Только сейчас он осознал, что неулыбчивый и требовательный Онисифор был для него не наставником, а отцом, и расставание причиняет ему неведомую до сих пор душевную боль. Афанасию подумалось, будто видит наставника в последний раз.
Всю жизнь его готовили к служению. Неведомый, неизвестно где скрывающийся князь, окутанный туманом тайны и недомолвок, казался василискам почти небожителем. Когда-нибудь он должен был спуститься с облаков и вместе с Онисифором повести их на завоевание Москвы. Василискам мерещились боевые скакуны, сияющие кольчуги, мечи в блещущих золотом ножнах, слышался грохот битвы, посвист стрел и собственное удалое гиканье. Их ждали слава, удача и успех.
И вот вместо ожидаемого великолепия – угрюмая церквушка в дремучем ельнике, скособочившийся скит, грязные, закопченные стены и князь, так похожий на обыкновенного чернеца.
Дождавшись, пока фигура наставника скроется из виду, Афанасий медленно побрел к обители. Сквозь снежный густой бор едва просвечивали колокольня и помещение для монахов, срубленные из почерневших бревен. Лишь сияние золотого креста пробивалось через толщу столетних деревьев. Миновав тяжелые ворота, он вошел на двор, увидел скит Ефросина, услышал пение, доносящееся из церкви, и неожиданно для себя разрыдался.
Сердце не обмануло: с Онисифором ему больше не довелось свидеться. Вернувшись в Спасо-Каменный монастырь, тот выполнил указание князя: отправил василисков в Новгород, снабдив грамотками к верным людям, а сам принялся заботиться о душе. Однако забота не пошла ей на пользу: спустя несколько месяцев Онисифор слег и в три дня преставился, не выдержав груза огорчений.
«Умереть в столь почтенном возрасте да еще в собственной постели – завидная удача для дружинника», – подумал Афанасий, когда до него дошла весть о смерти наставника.
Схоронили Онисифора на монастырском погосте, в тени разросшихся деревьев. Василиски в детстве часто играли там, прячась между замшелых плит. Многие из них осели, до половины уйдя в зеленую от сырости землю, а каменные кресты от ветра и влаги стали совсем мягкими, крошась под ножом, точно черствый хлеб. Только беленный мелом склеп, где нетленно и целокупно хранились святые мощи угодника Иоасафа Каменского, выглядел относительно ухоженным, и тем не менее весной перед его порогом буйно разрастались полевые цветы, а летом в дремучей траве вдоль стен густо вились пчелы.
На этом погосте, рядом с подвижниками, обрел покой Онисифор. Афанасий часто пытался представить себе его последние дни, пустые ночи в холодной келье, длинные молебны, на которых он чувствовал себя чужим, голубовато-зеленую гладь озера, отражающую высокое, равнодушное небо, куда улетела душа наставника.
Одинокий старик, потративший жизнь на пустое. И ведь с какой легкостью перечеркнул князь почти три десятилетия его жизни! И не только его, но и пятерых юношей. То, для чего их воспитывали, вдруг оказалось дурным и ненужным.
Афанасий возвращался мыслью к детским годам, вспоминал охоту на белок и волков, ночи на озере с гарпуном в руках, рассказы Онисифора у костра, рассветы в лесу, когда серый туман прорезается острыми лучами поднимающегося солнца. Насколько же они были счастливы, как сладко дышалось, сколько смысла и пользы скрывалось во всем, что они делали. Так ему думалось первое время пребывания в Трехсвятительском. Утраченное счастье осмысленного бытия представлялось далеким и невозможным, ему на смену пришли пустота, дребедень, бессмыслица.
«Он умер от горя, бедный старик, – сокрушался Афанасий. – И некому было утешить его в последние минуты, просто взять его руку в свою, подать воды, произнести слова утешения. Как суров рок, и сколь безжалостен Господь!»
Василиски не задержались в новгородской дружине, а разбрелись кто куда. Легко затеряться на Руси великой, везде нужны умелые ратники, только мало кто их ценит и отличает. Что с ними сталось: то ли сложили свои головы в боях, то ли продолжали служить у князей да воевод, Афанасий не знал. Да и откуда было ему знать, ведь Трехсвятительский стоял на отшибе, редко забредали сюда люди из большого мира. Обитавшие в нем чернецы новостей не искали, их жизнь была строго размерена и направлена вовнутрь, а не наружу.
Понемногу Афанасий нашел себе место в монастырском укладе. До его появления чернецы вели почти подвижническую жизнь, питаясь от воскресенья до воскресенья сухим хлебом и затвердевшей до каменного состояния кашей. Только после воскресного моления в трапезной появлялись вяленая рыба и похлебка из сушеных грибов.
Подвижничество объяснялось вовсе не святостью братьев, а крайней бедностью обители. Впрочем, некоторых чернецов вполне устраивал такой образ жизни, однако большинство нещадно страдали от голода. Афанасий не придумал ничего нового, он попросту продолжил заниматься тем, к чему привык в Спасо-Каменном монастыре. Ему хватило двух трапез и одного разговора с братом-ключником, чтобы оценить плачевность положения.
Уже на второй день с рассветом он отправился на охоту, а к полудню вернулся, неся на плечах увесистую тушу вепря. И хоть преподобный Ефросин недовольно косился на чернецов, вкушавших за ужином сочные куски жареного мяса, но возражать не стал, и с того вечера Афанасий превратился в любимца монахов.
Братья, отощавшие за голодные годы, были рады любой еде, о мясе и рыбе никто и помышлять не смел. Афанасий, тоскуя по наставнику, по утраченным друзьям и милому его сердцу Белозерью, старался занять себя от восхода до заката, поэтому в Трехсвятительском завелись и свежина, и рыба. К хорошему привыкают быстро, и скоро чернецы уже не мыслили себе воскресенья без ухи и жаренного на углях мяса.
Лес вокруг монастыря стоял вековой, нехоженый, конного езду тут не было. Бурелом, кусты, чащоба непролазная, и пешком не всякий пройдет. Лишь иногда встречалась поляна, поросшая лесными травами, не знавшими ноги человеческой. Никто тут сроду не хаживал, чернецам разве до дичи дело? А до ближайшей деревни больше пятнадцати верст. Зверь водился непуганый, легко подпускавший Афанасия на расстояние выстрела из лука.
Свалившийся на обитель достаток казался ее обитателям промыслом Божьим, а невесть откуда взявшийся Афанасий – посланником Всевышнего, присланным в награду за истовые молитвы и усердное радение. Наконец-то монахи стали есть досыта и не отправляться спать с урчащими от голода животами.
Лишь преподобный Ефросин не менял своих привычек. Еда оставляла его совершенно равнодушным. Он вставал после полуночи, ревностно молился несколько часов, а затем до утра сидел над книгами. Перед восходом солнца подкреплял ослабевшую плоть ломтем черствого хлеба, запивая его колодезной водой, и отправлялся в церковь на заутреню. Вернувшись в скит, до полудня работал над рукописями, затем ложился отдохнуть.
Проснувшись, преподобный вкушал засохшей каши с черствым хлебом и готовился к вечерне. После службы занимался насущными делами обители, стараясь завершить их как можно скорее, и до десяти часов читал Псалтырь. Затем ложился, не раздеваясь, вставал после полуночи и начинал все с самого начала.
Прошло два или три месяца. Афанасий пообвык, притерся к новой лямке. Тоска потихоньку ослабила хватку, и жизнь в Трехсвятительском стала казаться вполне приемлемой и в чем-то даже удобной. Ему никто не мешал, железный распорядок дня, неусыпно поддерживаемый Онисифором, исчез; Афанасий сам решал, когда вставать, когда ложиться и на что тратить свое время.
В одно из воскресений, после совместной трапезы, преподобный подозвал его коротким жестом руки. Одно движение, один повелительный взгляд – и Афанасий понял, что свобода прошедших месяцев была просто подарком, который он получил от князя. Правнук Дмитрия Донского, сын Шемяки даже не задумывался о том, как повелевать людьми. Это было у него в крови, в наследственной памяти, передаваемой от отца к сыну.
– По книжкам не соскучился? – то ли спросил, то ли приказал Ефросин.
– Соскучился, – тут же отозвался Афанасий, склоняя голову.
– Тогда пошли ко мне. Хватит тебе по лесам за дичью бегать. Ожирели чернецы от твоих трудов, потяжелели.
В ските преподобного в углу комнаты стоял большой сундук, освещенный лампадами и свечами. Ефросин пододвинул скамейку, присел, открыл крышку и принялся нежно перебирать книги, произнося вслух их названия. К великому удивлению Афанасия, помимо церковных, в сундуке оказались книги совсем иного свойства. «Приключения Дигениса Акрита», «Песнь Бояна», «Громовник», «Александрия».
– О великом царе повествует эта книга, – произнес Ефросин, раскрывая «Александрию». – Великом и мудром, не только подвигами ратными прославившем имя свое, но и трудом сближения народов. Ты слышал о царе Александре Двурогом?
– Нет, – отрицательно покачал головой Афанасий. – Онисифор не сказывал, а книги такой в Спасо-Каменной обители не было.
– Откуда ей там взяться, – усмехнулся преподобный. – На, посмотри.
Афанасий положил на колени тяжелый том в потертом переплете из синей кожи и принялся перелистывать страницы. Начало каждой было украшено выполненным киноварью изображением льва, хвост которого затейливо переплетался с заглавной буквой.
– Древняя книга, – уважительно произнес Ефросин, – больше сотни лет назад во Владимире переписывалась. Жил там знаменитый инок Антоний, много святых книг из-под его пера вышло, много радости он Богу доставил. А для развлечения князей владимирских, особливо жен их, не брезговал и мирскими занятиями. Так вот «Александрия» эта и создалась.
А вот еще одно, его руке принадлежащее, – Ефросин вытащил из глубин сундука книжку в зеленом сафьяновом переплете. – «Златоструй», лучшее из творений Иоанна Златоуста, с его вдохновенным словом о злых женах: самовластных, язычных и Богобойных. Пожалуй, начнем с нее. Времени тебе даю до следующего воскресенья. Прочтешь, придешь ко мне после трапезы и поговорим.
Афанасий склонил голову в знак послушания, помог князю сложить книги обратно в сундук и удалился, неся под мышкой «Златоструй».
Разумеется, до следующего воскресенья он не осилил и половины. Но князь не осерчал, напротив, долго беседовал с Афанасием о прочитанном. Беседа явно доставляла ему удовольствие.
– Книгоучение утверждает правоверных в древлем благоверии, – завершил разговор преподобный. – Много беседоваху досточтимые отцы наши о святых писаниях, силы получая для молитв и псалмопений. И тебе пример с них брать подобает. Бог в книгах, а не в битве шумной и не в громе многогласном. В тихом шелесте страниц Бог. На первый раз, так и быть, прощаю твое нерадение, но до следующего воскресенья чтоб знал назубок.
Пришлось Афанасию отложить в сторону охоту и засесть за «Златоструй». Память у него была хорошая, соображение быстрое, поэтому к сроку он вполне преуспел, и князь остался доволен.
– Вот тебе наставление дивное, – произнес он, протягивая Афанасию толстенный том. – «Патерикой» называется. Написал его пресвитер Руфин, и повествует оно о жизни пустынных отцов. Жил пресвитер много веков назад в пустыне египетской и познакомился там с великими подвижниками. У них учиться надобно в великом и малом. Быстро ты сей труд не осилишь, не рассчитываю, но читай по странице в день и ко мне приходи.
Афанасий встал, поклонился и пошел к выходу, дивясь про себя княжеской блажи. То целую книгу за неделю прочти, а то в день по странице. Прав был Онисифор, не поймешь княжий нрав.
– Чернецов благодари, – уже вслед произнес Ефросин. – Возопили они ко мне воплем великим и страшным. Быстро к сытой жизни привыкли.
Афанасий резко повернулся, дабы не стоять спиной к хозяину, и почтительно склонил голову.
– Чернецы говорят, – улыбнувшись, продолжал князь, – молитвы лучше на сытый живот править. Святостью прикрыть хотят слабость плоти! Вот так сатана ангела образ приемлет, егда раскидывает тенета своя слабого человека уловити.
Он помолчал, как бы приглашая Афанасия высказаться. Но тот, склонив голову, не проронил ни слова.
– Он милосерд и нам повелел жалеть человеков. Так что охоться, отрок, Небом посланный, – Ефросин снова улыбнулся, – корми братию, но страницу в день вынь да положь.
И потянулись дни, похожие один на другой, дни собирались в недели, те в месяцы, а месяцы в годы. Довольно скоро Афанасий понял, для чего Ефросин оставил его в обители. Преподобный более всего ценил чтение и скучал по собеседнику. Чернецы же кроме Псалтыря и книг молитвенных ничего в руки не брали, да и те читали по обязанности, а не в охотку. А князю хотелось разговоров.
– Бог в книге, – часто повторял он Афанасию. – Незримая в миру богоносная правда там открывается воочию, пути Божьи на земле понятны становятся. Трудно человеку разобратися, как жизнь устроена, аки отроцы вавилонстии в пещи горящей, душевным гладом томимы, лишь на милость вышнюю уповаем, да не всегда видим ее. А на страницах перст Божий зрим, яко рука человечья!
И Афанасий потихоньку привыкал к чтению. Сундук преподобного оказался неисчерпаемым. Впрочем, честно говоря, на книги много времени не оставалось, хозяйственные и охотничьи хлопоты поглощали большую часть дня. Но страницу, а то две или три в день Афанасий успевал, и даже такое скромное продвижение со временем приносило плоды. Спустя год жизни в Трехсвятительском он уже мог часами беседовать с князем о прочитанном. Прошел еще год, прежде чем преподобный раскрыл ему, над чем он трудится каждый день после заутрени до полудня.
– История народа не былины да побасенки, – объяснил Ефросин. – Из прошлого мы учимся будущему. Человеку малое время на земле отпущено, а народ стоит вечно. Наниче ся годины обратиша. Случаются хорошие, жирные года, приходят и покрытые тьмой. Из всякого урок извлекать надобно, нельзя между временами оказаться, там беспамятство и все противу правил. Народ, теряющий память, гибели подлежит.
Афанасий внимательно слушал князя, не понимая, к чему тот клонит.
– Народ – это не только чернецы, грамоту знающие. Им книги доступны, но сколько их? Горстка, щепоть маловажная. Историю так излагать надо, чтобы каждый понять сумел.
Онисифор перекрестил ученика, повернулся и пошел по дороге. Он почти скрылся в голубой дымке, изрядно уменьшенный расстоянием, а Афанасий все смотрел ему вслед. Вместе с этим стариком уходили его детство и юность, уходили семья, дом, уходило теплое прошлое, оставляя его в холодном настоящем. Только сейчас он осознал, что неулыбчивый и требовательный Онисифор был для него не наставником, а отцом, и расставание причиняет ему неведомую до сих пор душевную боль. Афанасию подумалось, будто видит наставника в последний раз.
Всю жизнь его готовили к служению. Неведомый, неизвестно где скрывающийся князь, окутанный туманом тайны и недомолвок, казался василискам почти небожителем. Когда-нибудь он должен был спуститься с облаков и вместе с Онисифором повести их на завоевание Москвы. Василискам мерещились боевые скакуны, сияющие кольчуги, мечи в блещущих золотом ножнах, слышался грохот битвы, посвист стрел и собственное удалое гиканье. Их ждали слава, удача и успех.
И вот вместо ожидаемого великолепия – угрюмая церквушка в дремучем ельнике, скособочившийся скит, грязные, закопченные стены и князь, так похожий на обыкновенного чернеца.
Дождавшись, пока фигура наставника скроется из виду, Афанасий медленно побрел к обители. Сквозь снежный густой бор едва просвечивали колокольня и помещение для монахов, срубленные из почерневших бревен. Лишь сияние золотого креста пробивалось через толщу столетних деревьев. Миновав тяжелые ворота, он вошел на двор, увидел скит Ефросина, услышал пение, доносящееся из церкви, и неожиданно для себя разрыдался.
Сердце не обмануло: с Онисифором ему больше не довелось свидеться. Вернувшись в Спасо-Каменный монастырь, тот выполнил указание князя: отправил василисков в Новгород, снабдив грамотками к верным людям, а сам принялся заботиться о душе. Однако забота не пошла ей на пользу: спустя несколько месяцев Онисифор слег и в три дня преставился, не выдержав груза огорчений.
«Умереть в столь почтенном возрасте да еще в собственной постели – завидная удача для дружинника», – подумал Афанасий, когда до него дошла весть о смерти наставника.
Схоронили Онисифора на монастырском погосте, в тени разросшихся деревьев. Василиски в детстве часто играли там, прячась между замшелых плит. Многие из них осели, до половины уйдя в зеленую от сырости землю, а каменные кресты от ветра и влаги стали совсем мягкими, крошась под ножом, точно черствый хлеб. Только беленный мелом склеп, где нетленно и целокупно хранились святые мощи угодника Иоасафа Каменского, выглядел относительно ухоженным, и тем не менее весной перед его порогом буйно разрастались полевые цветы, а летом в дремучей траве вдоль стен густо вились пчелы.
На этом погосте, рядом с подвижниками, обрел покой Онисифор. Афанасий часто пытался представить себе его последние дни, пустые ночи в холодной келье, длинные молебны, на которых он чувствовал себя чужим, голубовато-зеленую гладь озера, отражающую высокое, равнодушное небо, куда улетела душа наставника.
Одинокий старик, потративший жизнь на пустое. И ведь с какой легкостью перечеркнул князь почти три десятилетия его жизни! И не только его, но и пятерых юношей. То, для чего их воспитывали, вдруг оказалось дурным и ненужным.
Афанасий возвращался мыслью к детским годам, вспоминал охоту на белок и волков, ночи на озере с гарпуном в руках, рассказы Онисифора у костра, рассветы в лесу, когда серый туман прорезается острыми лучами поднимающегося солнца. Насколько же они были счастливы, как сладко дышалось, сколько смысла и пользы скрывалось во всем, что они делали. Так ему думалось первое время пребывания в Трехсвятительском. Утраченное счастье осмысленного бытия представлялось далеким и невозможным, ему на смену пришли пустота, дребедень, бессмыслица.
«Он умер от горя, бедный старик, – сокрушался Афанасий. – И некому было утешить его в последние минуты, просто взять его руку в свою, подать воды, произнести слова утешения. Как суров рок, и сколь безжалостен Господь!»
Василиски не задержались в новгородской дружине, а разбрелись кто куда. Легко затеряться на Руси великой, везде нужны умелые ратники, только мало кто их ценит и отличает. Что с ними сталось: то ли сложили свои головы в боях, то ли продолжали служить у князей да воевод, Афанасий не знал. Да и откуда было ему знать, ведь Трехсвятительский стоял на отшибе, редко забредали сюда люди из большого мира. Обитавшие в нем чернецы новостей не искали, их жизнь была строго размерена и направлена вовнутрь, а не наружу.
Понемногу Афанасий нашел себе место в монастырском укладе. До его появления чернецы вели почти подвижническую жизнь, питаясь от воскресенья до воскресенья сухим хлебом и затвердевшей до каменного состояния кашей. Только после воскресного моления в трапезной появлялись вяленая рыба и похлебка из сушеных грибов.
Подвижничество объяснялось вовсе не святостью братьев, а крайней бедностью обители. Впрочем, некоторых чернецов вполне устраивал такой образ жизни, однако большинство нещадно страдали от голода. Афанасий не придумал ничего нового, он попросту продолжил заниматься тем, к чему привык в Спасо-Каменном монастыре. Ему хватило двух трапез и одного разговора с братом-ключником, чтобы оценить плачевность положения.
Уже на второй день с рассветом он отправился на охоту, а к полудню вернулся, неся на плечах увесистую тушу вепря. И хоть преподобный Ефросин недовольно косился на чернецов, вкушавших за ужином сочные куски жареного мяса, но возражать не стал, и с того вечера Афанасий превратился в любимца монахов.
Братья, отощавшие за голодные годы, были рады любой еде, о мясе и рыбе никто и помышлять не смел. Афанасий, тоскуя по наставнику, по утраченным друзьям и милому его сердцу Белозерью, старался занять себя от восхода до заката, поэтому в Трехсвятительском завелись и свежина, и рыба. К хорошему привыкают быстро, и скоро чернецы уже не мыслили себе воскресенья без ухи и жаренного на углях мяса.
Лес вокруг монастыря стоял вековой, нехоженый, конного езду тут не было. Бурелом, кусты, чащоба непролазная, и пешком не всякий пройдет. Лишь иногда встречалась поляна, поросшая лесными травами, не знавшими ноги человеческой. Никто тут сроду не хаживал, чернецам разве до дичи дело? А до ближайшей деревни больше пятнадцати верст. Зверь водился непуганый, легко подпускавший Афанасия на расстояние выстрела из лука.
Свалившийся на обитель достаток казался ее обитателям промыслом Божьим, а невесть откуда взявшийся Афанасий – посланником Всевышнего, присланным в награду за истовые молитвы и усердное радение. Наконец-то монахи стали есть досыта и не отправляться спать с урчащими от голода животами.
Лишь преподобный Ефросин не менял своих привычек. Еда оставляла его совершенно равнодушным. Он вставал после полуночи, ревностно молился несколько часов, а затем до утра сидел над книгами. Перед восходом солнца подкреплял ослабевшую плоть ломтем черствого хлеба, запивая его колодезной водой, и отправлялся в церковь на заутреню. Вернувшись в скит, до полудня работал над рукописями, затем ложился отдохнуть.
Проснувшись, преподобный вкушал засохшей каши с черствым хлебом и готовился к вечерне. После службы занимался насущными делами обители, стараясь завершить их как можно скорее, и до десяти часов читал Псалтырь. Затем ложился, не раздеваясь, вставал после полуночи и начинал все с самого начала.
Прошло два или три месяца. Афанасий пообвык, притерся к новой лямке. Тоска потихоньку ослабила хватку, и жизнь в Трехсвятительском стала казаться вполне приемлемой и в чем-то даже удобной. Ему никто не мешал, железный распорядок дня, неусыпно поддерживаемый Онисифором, исчез; Афанасий сам решал, когда вставать, когда ложиться и на что тратить свое время.
В одно из воскресений, после совместной трапезы, преподобный подозвал его коротким жестом руки. Одно движение, один повелительный взгляд – и Афанасий понял, что свобода прошедших месяцев была просто подарком, который он получил от князя. Правнук Дмитрия Донского, сын Шемяки даже не задумывался о том, как повелевать людьми. Это было у него в крови, в наследственной памяти, передаваемой от отца к сыну.
– По книжкам не соскучился? – то ли спросил, то ли приказал Ефросин.
– Соскучился, – тут же отозвался Афанасий, склоняя голову.
– Тогда пошли ко мне. Хватит тебе по лесам за дичью бегать. Ожирели чернецы от твоих трудов, потяжелели.
В ските преподобного в углу комнаты стоял большой сундук, освещенный лампадами и свечами. Ефросин пододвинул скамейку, присел, открыл крышку и принялся нежно перебирать книги, произнося вслух их названия. К великому удивлению Афанасия, помимо церковных, в сундуке оказались книги совсем иного свойства. «Приключения Дигениса Акрита», «Песнь Бояна», «Громовник», «Александрия».
– О великом царе повествует эта книга, – произнес Ефросин, раскрывая «Александрию». – Великом и мудром, не только подвигами ратными прославившем имя свое, но и трудом сближения народов. Ты слышал о царе Александре Двурогом?
– Нет, – отрицательно покачал головой Афанасий. – Онисифор не сказывал, а книги такой в Спасо-Каменной обители не было.
– Откуда ей там взяться, – усмехнулся преподобный. – На, посмотри.
Афанасий положил на колени тяжелый том в потертом переплете из синей кожи и принялся перелистывать страницы. Начало каждой было украшено выполненным киноварью изображением льва, хвост которого затейливо переплетался с заглавной буквой.
– Древняя книга, – уважительно произнес Ефросин, – больше сотни лет назад во Владимире переписывалась. Жил там знаменитый инок Антоний, много святых книг из-под его пера вышло, много радости он Богу доставил. А для развлечения князей владимирских, особливо жен их, не брезговал и мирскими занятиями. Так вот «Александрия» эта и создалась.
А вот еще одно, его руке принадлежащее, – Ефросин вытащил из глубин сундука книжку в зеленом сафьяновом переплете. – «Златоструй», лучшее из творений Иоанна Златоуста, с его вдохновенным словом о злых женах: самовластных, язычных и Богобойных. Пожалуй, начнем с нее. Времени тебе даю до следующего воскресенья. Прочтешь, придешь ко мне после трапезы и поговорим.
Афанасий склонил голову в знак послушания, помог князю сложить книги обратно в сундук и удалился, неся под мышкой «Златоструй».
Разумеется, до следующего воскресенья он не осилил и половины. Но князь не осерчал, напротив, долго беседовал с Афанасием о прочитанном. Беседа явно доставляла ему удовольствие.
– Книгоучение утверждает правоверных в древлем благоверии, – завершил разговор преподобный. – Много беседоваху досточтимые отцы наши о святых писаниях, силы получая для молитв и псалмопений. И тебе пример с них брать подобает. Бог в книгах, а не в битве шумной и не в громе многогласном. В тихом шелесте страниц Бог. На первый раз, так и быть, прощаю твое нерадение, но до следующего воскресенья чтоб знал назубок.
Пришлось Афанасию отложить в сторону охоту и засесть за «Златоструй». Память у него была хорошая, соображение быстрое, поэтому к сроку он вполне преуспел, и князь остался доволен.
– Вот тебе наставление дивное, – произнес он, протягивая Афанасию толстенный том. – «Патерикой» называется. Написал его пресвитер Руфин, и повествует оно о жизни пустынных отцов. Жил пресвитер много веков назад в пустыне египетской и познакомился там с великими подвижниками. У них учиться надобно в великом и малом. Быстро ты сей труд не осилишь, не рассчитываю, но читай по странице в день и ко мне приходи.
Афанасий встал, поклонился и пошел к выходу, дивясь про себя княжеской блажи. То целую книгу за неделю прочти, а то в день по странице. Прав был Онисифор, не поймешь княжий нрав.
– Чернецов благодари, – уже вслед произнес Ефросин. – Возопили они ко мне воплем великим и страшным. Быстро к сытой жизни привыкли.
Афанасий резко повернулся, дабы не стоять спиной к хозяину, и почтительно склонил голову.
– Чернецы говорят, – улыбнувшись, продолжал князь, – молитвы лучше на сытый живот править. Святостью прикрыть хотят слабость плоти! Вот так сатана ангела образ приемлет, егда раскидывает тенета своя слабого человека уловити.
Он помолчал, как бы приглашая Афанасия высказаться. Но тот, склонив голову, не проронил ни слова.
– Он милосерд и нам повелел жалеть человеков. Так что охоться, отрок, Небом посланный, – Ефросин снова улыбнулся, – корми братию, но страницу в день вынь да положь.
И потянулись дни, похожие один на другой, дни собирались в недели, те в месяцы, а месяцы в годы. Довольно скоро Афанасий понял, для чего Ефросин оставил его в обители. Преподобный более всего ценил чтение и скучал по собеседнику. Чернецы же кроме Псалтыря и книг молитвенных ничего в руки не брали, да и те читали по обязанности, а не в охотку. А князю хотелось разговоров.
– Бог в книге, – часто повторял он Афанасию. – Незримая в миру богоносная правда там открывается воочию, пути Божьи на земле понятны становятся. Трудно человеку разобратися, как жизнь устроена, аки отроцы вавилонстии в пещи горящей, душевным гладом томимы, лишь на милость вышнюю уповаем, да не всегда видим ее. А на страницах перст Божий зрим, яко рука человечья!
И Афанасий потихоньку привыкал к чтению. Сундук преподобного оказался неисчерпаемым. Впрочем, честно говоря, на книги много времени не оставалось, хозяйственные и охотничьи хлопоты поглощали большую часть дня. Но страницу, а то две или три в день Афанасий успевал, и даже такое скромное продвижение со временем приносило плоды. Спустя год жизни в Трехсвятительском он уже мог часами беседовать с князем о прочитанном. Прошел еще год, прежде чем преподобный раскрыл ему, над чем он трудится каждый день после заутрени до полудня.
– История народа не былины да побасенки, – объяснил Ефросин. – Из прошлого мы учимся будущему. Человеку малое время на земле отпущено, а народ стоит вечно. Наниче ся годины обратиша. Случаются хорошие, жирные года, приходят и покрытые тьмой. Из всякого урок извлекать надобно, нельзя между временами оказаться, там беспамятство и все противу правил. Народ, теряющий память, гибели подлежит.
Афанасий внимательно слушал князя, не понимая, к чему тот клонит.
– Народ – это не только чернецы, грамоту знающие. Им книги доступны, но сколько их? Горстка, щепоть маловажная. Историю так излагать надо, чтобы каждый понять сумел.