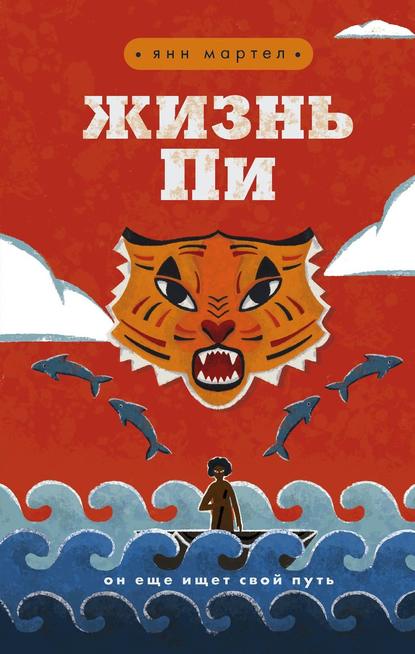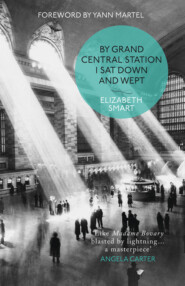По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь Пи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До переезда в Пондишери отец мой служил управляющим в одной большой гостинице в Мадрасе. Однако неизменная любовь к животным побудила его заняться другим делом – и он стал директором зоопарка. Ну и что тут такого, скажете вы, вполне разумное решение, да и какая разница, чем управлять – гостиницей или зоопарком. Неправда ваша! Как ни крути, зоопарк по сравнению с гостиницей – сущий кошмар. Только представьте: постояльцы заперты по номерам; им подавай не только жилье, но и полный пансион; к ним толпами валят гости, а среди них попадаются на редкость шумные и озорные. Чтобы у них убрать, надо обождать, пока те не переберутся, если можно так выразиться, на балконы; и вот сидишь да и ждешь, когда им наскучит окружающий вид и они снова разойдутся по номерам, чтобы затем привести в порядок и балконы; а уборка – дело нешуточное, тем более что далеко не все постояльцы соблюдают чистоту: многие неопрятны, как горькие пьяницы. Притом каждый уж больно разборчив в еде и беспрестанно жалуется, что его-де медленно обслуживают, а чаевых от таких приверед, ясное дело, не дождешься. Между нами говоря, встречаются среди них и чистые извращенцы: такие или безысходно подавлены и временами взрываются дикой похотью, или ведут себя нарочито распущенно, но и те и другие нередко оскорбляют служащих своими выходками, доходящими порой до кровосмешения. Хотелось бы вам привечать у себя в гостинице эдаких постояльцев? Вот-вот… Пондишерийский зоопарк стал неизбывным источником как редкостных радостей, так и постоянных хлопот для Сантуша Пателя – основателя, хозяина, директора, управляющего персоналом из пятидесяти трех человек, и моего отца.
А по мне, то был рай земной. У меня остались самые счастливые воспоминания о зоопарке: ведь там я вырос. Жил я как принц. Да и какой сын махараджи мог бы похвастаться такой же огромной и роскошной игровой площадкой? В каком еще дворце имелся такой зверинец? В детстве будильником мне служил львиный рык. Понятно, куда уж львам тягаться в точности со швейцарскими часами, но каждое утро, между пятью и шестью, они как штык принимались рычать. К завтраку неизменно звали вопли и крики ревунов, горных майн и молуккских какаду. В школу меня провожали добрым взглядом не только матушка, но и глазастые выдры, и громадный американский бизон, и потягивающиеся, зевающие орангутаны. Пробегая под деревьями, я то и дело задирал голову, чтобы, не ровен час, не угодить под павлинье пометометание. Безопаснее всего было под деревьями, кишевшими крыланами; единственное, чего, пожалуй, следовало опасаться, окажись ты там спозаранку, так это утреннего концерта: летучие мыши гомонили и пищали так истошно, да еще не в лад, что хоть уши затыкай. Попутно я по привычке задерживался у террариумов – любовался лоснящимися, будто отполированными, лягушками: у одних кожа была изумрудная, у других – желтая с темно-синим отливом или бурая с зеленоватым. Иной раз я заглядывался на птиц – розовых фламинго, черных лебедей, шлемоносных казуаров или на пичужек вроде серебристых горлиц, пестрых капских скворцов, розовощеких неразлучников, черноголовых, длиннохвостых и желтогрудых попугайчиков… Слонов, тюленей, больших кошек или медведей вроде пока не видно – не их время, зато павианы, макаки, мангабеи, гиббоны, олени, тапиры, ламы, жирафы и мангусты пробуждались чуть свет. Каждое утро, перед тем как выйти за главные ворота, я всегда наблюдал одну и ту же картину, обычную и в то же время незабываемую: пирамиду из черепах; переливающуюся всеми цветами радуги мордашку мандрила; величавого молчаливого жирафа; громадную разверстую желтую пасть гиппопотама; попугая ара, который карабкается по прутьям ограды, цепляясь за них клювом и когтями; приветственную дробь, которую исправно отбивает клювом китоглав; колоритную, как у матерого распутника, морду верблюда. Все эти сокровища так и мелькали у меня перед глазами: ведь я спешил в школу. И только после занятий я мог без лишней суеты проверить на себе, каково оно, когда слон обнюхивает твою одежду – нет ли в кармане ореха – или когда орангутан копается у тебя в волосах, думая выудить лакомого клеща, и после обиженно сопит: твоя голова не оправдала-де его надежд. А разве описать словами, как грациозно скользит по воде тюлень, или изящно, подобно маятнику, раскачивается на ветке паукообразная обезьяна, или как бесхитростно крутит головой лев. Нет, слова попросту тонут в этом море красоты. Уж лучше нарисовать себе все это в голове – так оно вернее.
В зоопарке, как и на природе, лучше всего бывать на восходе или на закате. В это время большинство животных бодрствуют. Пробудившись, они выбираются из укрытий и бредут на водопой. Щеголяют своими нарядами. Поют песни. Переглядываются и совершают разные ритуалы. Вот она – награда пытливому наблюдателю. Лично я бог знает сколько времени отдал неспешным наблюдениям за сложнейшими, многообразнейшими проявлениями жизненных форм, облагораживающих нашу планету. Формы эти до того красочны, громкозвучны, причудливы и изысканны, что просто диву даешься.
Про зоопарки я понаслушался почти столько же небылиц, сколько и про веру в Бога. Некоторые несведущие благожелатели полагают, будто на воле животные счастливы, потому что свободны. Такие люди обычно представляют себе большого, статного хищника – льва или гепарда (образ гну или трубкозуба как-то не приходит в голову). Они представляют себе, как дикий красавец зверь рыщет по саванне в поисках, чем бы поживиться… а после чинно переваривает добычу, безропотно принявшую свою участь, или трусит себе помаленьку, чтобы сохранить стать после роскошного пиршества. Они представляют себе, как зверь гордым и нежным взглядом обводит свое потомство, как все его семейство, разлегшись на ветвях деревьев и довольно урча, любуется заходом солнца. Жизнь дикого зверя, думают они, проста, замечательна и содержательна. Потом его отлавливают злодеи – и сажают в тесную клетку. Прощай, вольное счастье. Отныне зверь помышляет только о свободе – и изо всех сил стремится вырваться на волю. Лишенный свободы, притом надолго, зверь превращается в тень самого себя: дух его сломлен. Вот что думают некоторые благожелатели.
На самом же деле все по-другому.
В природе животными движут принуждение и необходимость, в дикой среде все подчинено незыблемой общественной иерархии; страх там неизбывен, а пищи совсем не густо; приходится денно и нощно охранять свою территорию и страдать от назойливых паразитов. Тогда что толку в такой свободе? И то верно: дикие звери не свободны и на воле – ни в пространстве, ни во времени, ни в отношениях между собой. Теоретически, или, попросту говоря, физически, зверь может податься куда угодно, презрев общественные условности и ограничения, свойственные его виду. Но на деле у животных такое встречается еще реже, чем у представителей нашего племени. Попробуйте-ка сказать какому-нибудь лавочнику: давай, мол, бросай свои дела, семью, друзей, общество, прихвати деньжат, самую малость, да кое-какую одежонку на смену и ступай куда глаза глядят! Уж коли человеку, самому храброму и разумному из всех животных, претит скитаться по белу свету эдаким чужаком-изгоем, никому ничем не обязанным, то что говорить о зверях с их-то нравом, куда более консервативным, чем у нашего брата человека? Да-да, так оно и есть: все звери – консерваторы, а то и реакционеры. На малейшие перемены в жизни они реагируют крайне болезненно. Они любят, чтобы все было так, как есть, – день за днем, месяц за месяцем. Они терпеть не могут всяких неожиданностей. Взять хотя бы их территориальные взаимоотношения. У каждого зверя, будь то в зоопарке или в природе, есть свое жизненное пространство, и каждый ход их исполнен смысла, как у шахматных фигур. В том, что ящерица, медведь или олень держатся за свое местообитание, случайности или свободы ничуть не больше, чем в позиции того же слона на шахматной доске. В обоих случаях есть порядок и цель. В природе звери из сезона в сезон передвигаются по одним и тем же тропам, влекомые одними и теми же настоятельными причинами. В зоопарке же, если зверь не лежит в определенное время в привычном месте, значит, здесь что-то не так. Это может означать, что в окружающей обстановке кое-что изменилось, пусть и незаметно. Забудет уборщик шланг – тот валяется, свернувшись клубком, и как будто угрожает. Или вдруг образовалась лужа – и она тревожит зверя. А тут еще лестница отбрасывает тень. Но это может означать и нечто большее. В худшем случае – то, чего директор зоопарка боится больше всего: симптом, предвещающий недоброе, – повод осмотреть помет, расспросить смотрителя, пригласить ветеринара… И все потому, что аист стоит не там, где обычно!
Но давайте пока рассмотрим только одну сторону вопроса.
Если вы нагрянете в чужой дом, вышибете ногой дверь, выдворите жильцов на улицу и скажете: «Проваливайте! Вы свободны! Свободны как птицы! Прочь отсюда! Прочь!» – думаете, они тут же пустятся в пляс и запоют от радости? Ничего подобного. Птицы не свободны. Жильцы, которых вы только что выставили на улицу, непременно возмутятся: «По какому праву ты нас гонишь? Это наш дом. Наш собственный. Мы живем здесь не один год. Сейчас вызовем полицию, негодяй ты этакий!»
Кто не знает пословицу: «В гостях хорошо, а дома лучше»? То же самое определенно ощущают и звери. Они – существа территориальные. И в этом вся суть их психологии. Лишь на своей территории они могут следовать двум насущным требованиям природы: таиться от врагов и добывать пищу и воду. Любой пригодный для жизни уголок зоопарка, хоть и огражденный: клетка, яма, окруженный рвом островок, загон, террариум, вольер или аквариум, – та же территория обитания, только она много меньше природной и находится рядом с жизненным пространством человека. Ну а то, что территория эта действительно крохотная по сравнению с природной средой, вполне очевидно. Природные местообитания огромны отнюдь не по причине вкусовых пристрастий тех или иных животных: такова жизненная необходимость. В зоопарке мы устраиваем животных так же, как сами устраиваемся у себя дома, – стараемся разместить на крохотном пятачке то, что в природе рассредоточено на обширном пространстве. Если в допотопные времена пещера наша была здесь, река – там, на охоту приходилось идти к черту на рога и в том же месте разбивать стоянку, а за ягодами надо было забираться еще дальше, притом что кругом простирались непролазные дебри, поросшие ядовитым плющом и кишевшие львами, змеями, муравьями да пиявками, то теперь «река» течет у вас из крана – только руку протяни, вымыться можно, не отходя от постели, а поесть – там же, где и стряпали; такое жилье легко содержать в чистоте и тепле, да и огородить его – раз плюнуть. Дом – компактная территория, где главные свои потребности мы удовлетворяем в одном месте и в безопасности. Добротное, удобное обиталище в зоопарке – тот же самый дом, только звериный (правда, без камина и прочих удобств, что имеются в каждом человеческом жилище). Обнаружив там все необходимое – наблюдательную площадку, закуток для отдыха, место для кормежки и питья, водоем, уголок для чистки и все такое, сообразив, что больше нет надобности охотиться, что корм берется сам по себе, притом шесть раз в неделю, зверь начинает обживать новое жизненное пространство в зоопарке точно так же, как в природе: обнюхивает его и помечает, к примеру, мочой, сообразно с повадками своего вида. Обосновавшись на новом месте, зверь ощущает себя уже не затравленным приживалой и, уж во всяком случае, не затворником, а полновластным хозяином: в замкнутом пространстве он ведет себя так же, как на воле, всегда готовый защищать свою территорию от незваных гостей и когтями, и клыками. Субъективно огороженное место не хуже и не лучше, чем его местообитание в природе: ежели территория за оградой или на воле ему подходит, значит, так тому и быть, – это такая же простая данность, как пятна на шкуре леопарда. Кто-то мог бы даже поспорить, что зверь, будь он разумен, выбрал бы жизнь в зоопарке, поскольку главное, чем зоопарк отличается от дикой природы, так это сытостью и отсутствием паразитов и врагов в первом случае и вечным голодом да обилием тех же паразитов и врагов – во втором. Сами посудите, что лучше: жить на дармовщину в отеле «Риц», да еще с бесплатным медицинским обслуживанием, или заделаться бродягой, на которого всем наплевать? Впрочем, звери не умеют сравнивать. Будучи по природе существами ограниченными, они принимают все как есть.
В хорошем зоопарке все продумано до тонкостей: так, если зверь предупреждает нас: «Держись подальше!» – пуская в ход мочу и прочие выделения, мы отвечаем: «Сиди где сидишь!» – и для верности отгораживаемся от него решеткой. При таком мирном дипломатическом раскладе и зверь не в обиде, и нам спокойнее, и мы можем без опаски глядеть друг на друга.
В литературе описано немало историй про зверей, которые хоть и могли сбежать на волю, но не сбегали, а если и сбегали, то непременно возвращались обратно. Вот, к примеру, история про шимпанзе: как-то раз не заперли дверь его клетки, и та открылась сама собой. Шимпанзе переполошился не на шутку: как завопит и давай лязгать дверью туда-сюда, силясь, как видно, закрыть, и так до тех пор, пока кто-то из посетителей не кликнул смотрителя – тот мигом прибежал и исправил оплошность. А в одном европейском зоопарке косули всем стадом выбрались из зоопарка через ворота, которые тоже забыли закрыть. Испугавшись посетителей, косули бросились в соседний лес, где обитали их дикие сородичи и где с лихвой хватило бы места и для них. Однако беглянки скоро вернулись обратно – в свой загон. В другом зоопарке плотник принялся ранним утром перетаскивать доски к рабочему месту, и тут, к его ужасу, из предрассветной дымки – медведь, и прямо на него. Плотник бросил доски и дал деру. Смотрители кинулись искать косолапого беглеца… И нашли в его собственной берлоге: он забрался туда так же преспокойно, как и выбрался, – по стволу рухнувшего дерева. Все решили, что его просто спугнул грохот падавших досок.
Впрочем, я ничего не собираюсь доказывать. И не хочу защищать зоопарки. Хоть все их позакрывайте, ради бога (и будем надеяться, последние из могикан животного мира уж как-нибудь да выживут на оставшихся жалких островках дикой природы). Я знаю, зоопарки нынче не в чести. Как и религия. И то и другое внушает людям лишь иллюзию свободы.
Пондишерийского зоопарка больше нет. Звериные ямы засыпали землей, клетки сломали. А если где и остались его следы, то лишь в одном месте – в моей памяти.
5
На моем имени история моего имени не заканчивается. Если тебя зовут Боб, никто и не спросит: «Как это пишется?» Не то что Писин Молитор Патель.
Кто-то думал, что я из сикхов и зовут меня П. Сингх, и удивлялся, почему я не хожу в тюрбане.
Однажды, когда я был уже студентом, мы с друзьями отправились в Монреаль. И как-то вечером мне приспичило заказать пиццу. Я с ужасом подумал: ну вот, сейчас еще один француз будет надо мной подтрунивать, и, когда по телефону спросили, как меня зовут, я сказал: «Я есмь Сущий». Не прошло и получаса, как принесли две пиццы – на имя Яна Хулигана.
Что верно, то верно, мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем, даже имени своего не помним. Взять, к примеру, Симона, нареченного Петром; Матфея по прозванию Левий; Нафанаила, названного Варфоломеем; Иуду – другого, не Искариота, – взявшего имя Фаддей; Симеона, обращенного в Нигера; Савла, ставшего Павлом.
Своего «римского воина» я встретил однажды утром на школьном дворе – мне было тогда двенадцать. Я только-только подошел. И едва он меня заметил, в тупой его голове полыхнуло недобрым огнем. Он вскинул руку, показал на меня пальцем и завопил: «А вот и наш Писун Патель[3 - Игра слов – фр. piscine (бассейн) и англ. pissing (писающий).]пожаловал!»
Все чуть животики не надорвали. Перестали гоготать, только когда мы строем вошли в класс. Я шел последним, увенчанный терновым венцом.
Дети бывают жестоки, это ни для кого не секрет. Мне то и дело приходилось слышать, причем без всякого повода, будто невзначай: «Писун идет. Пора делать ноги!» Или: «Чего к стенке-то отвернулся? Писаешь, что ли?» И все в том же духе. Я цепенел – или просто продолжал свое дело, прикинувшись глухим.
Учителя и те стали меня так называть. Было жарко. В разгар дня урок географии, еще утром казавшийся размером с оазис, вдруг разрастался во всю ширь пустыни Тар[4 - Тар – пустыня в Индии и Пакистане.]; урок истории, такой живой утром, превращался в вязкую грязную лужу; а урок математики, сперва такой стройный, оборачивался хаосом. Сморенные послеполуденной усталостью, обтирая лоб и шею носовым платком, даже учителя без злого умысла, без малейшей охоты кого-то рассмешить, словно забывали про живительную прохладу, наполнявшую мое имя, и принимались его коверкать самым постыдным образом. По едва уловимым признакам я, однако, живо угадывал: ну вот, сейчас начнется. Их языки были словно наездники, которым не под силу совладать с ретивым скакуном. Правда, с первым слогом – долгим Пи – они еще с грехом пополам справлялись, но жара была нестерпимой, и второй слог – син – одолеть уже не могли. Вместо того они с ходу проваливались в бездну хлесткого сун – и все. Я тянул руку вверх, вызываясь ответить, и тут же слышал: «Да, Писун». Чаще всего учитель даже не отдавал себе отчета в том, как меня назвал. Он устало смотрел на меня и недоумевал, почему я молчу как рыба. А иной раз и весь класс, вконец одурев от жары, сидел точно в ступоре.
На последнем году учебы в школе Сент-Джозеф я чувствовал себя как гонимый пророк Мухаммед в Мекке, мир ему. Он задумал бежать в Медину – совершить хиджру, положившую начало мусульманской эре; так вот и я решил сбежать, чтобы и в моей жизни настали новые времена.
Из Сент-Джозефа я перевелся в Пти-Семинер, лучшую в Пондишери частную среднюю английскую школу. Рави тоже там учился, и мне, как всем младшим братьям, пришлось несладко оттого, что я оказался в тени знаменитого братца. Среди своих сверстников по Пти-Семинеру он слыл чемпионом: лучшего подавалы и отбивалы было не сыскать, вот он и стал капитаном первой в городе крикетной команды, эдаким Капилом Девом местного масштаба. И хотя я плавал как рыба, всем на меня было наплевать – так уж устроен человек: приморцы всегда косятся на пловцов, как горцы – на альпинистов. Но я не собирался отсиживаться за чужой спиной и был согласен на любое другое имя, только не «Писун», хоть бы и на «Рави Младшего». Впрочем, у меня был план и получше.
Я приступил к его выполнению в первый же день, как пришел в школу, на самом первом уроке. Со мной учились и другие питомцы Сент-Джозефа. Урок начался с того же, с чего начинаются первые уроки во всех школах, – с переклички. Мы представлялись в том порядке, в каком сидели за партами.
– Ганапатхи Кумар, – сказал Ганапатхи Кумар.
– Випин Натх, – сказал Випин Натх.
– Шамшул Худха, – сказал Шамшул Худха.
– Питер Дхармарадж, – сказал Питер Дхармарадж.
Учитель коротко, с серьезным видом кивал и ставил галочку против каждого имени в журнале. Я сидел как на иголках.
– Аджитх Джиадсон, – сказал Аджитх Джиадсон, за четыре парты от меня…
– Сампатх Сароджа, – сказал Сампатх Сароджа, за три…
– Стэнли Кумар, – сказал Стэнли Кумар, за две…
– Сильвестр Навин, – сказал Сильвестр Навин, прямо передо мной.
И вот моя очередь. Пора сокрушить сатану. Медина, я иду.
Я выскочил из-за парты и устремился к доске. Учитель не успел и рта раскрыть, как я схватил кусок мела и начал писать, приговаривая:
Меня зовут
Писин Молитор Патель,
известный всем как —
я дважды подчеркнул первые две буквы имени —
Пи Патель,
а ниже, для наглядности, дописал:
? = 3,14,
потом начертал большой круг и провел диаметр, как на уроке геометрии.
В классе повисла тишина. Учитель смотрел на доску. Я стоял, затаив дыхание. Наконец учитель сказал:
– Отлично, Пи. Садись. В другой раз, если захочешь отвечать, не забудь спросить разрешения.
– Понятно, сэр.
Он поставил галочку против моего имени. И обратился к следующему мальчугану.
– Мансур Ахамад, – сказал Мансур Ахамад.
Я спасен.
А по мне, то был рай земной. У меня остались самые счастливые воспоминания о зоопарке: ведь там я вырос. Жил я как принц. Да и какой сын махараджи мог бы похвастаться такой же огромной и роскошной игровой площадкой? В каком еще дворце имелся такой зверинец? В детстве будильником мне служил львиный рык. Понятно, куда уж львам тягаться в точности со швейцарскими часами, но каждое утро, между пятью и шестью, они как штык принимались рычать. К завтраку неизменно звали вопли и крики ревунов, горных майн и молуккских какаду. В школу меня провожали добрым взглядом не только матушка, но и глазастые выдры, и громадный американский бизон, и потягивающиеся, зевающие орангутаны. Пробегая под деревьями, я то и дело задирал голову, чтобы, не ровен час, не угодить под павлинье пометометание. Безопаснее всего было под деревьями, кишевшими крыланами; единственное, чего, пожалуй, следовало опасаться, окажись ты там спозаранку, так это утреннего концерта: летучие мыши гомонили и пищали так истошно, да еще не в лад, что хоть уши затыкай. Попутно я по привычке задерживался у террариумов – любовался лоснящимися, будто отполированными, лягушками: у одних кожа была изумрудная, у других – желтая с темно-синим отливом или бурая с зеленоватым. Иной раз я заглядывался на птиц – розовых фламинго, черных лебедей, шлемоносных казуаров или на пичужек вроде серебристых горлиц, пестрых капских скворцов, розовощеких неразлучников, черноголовых, длиннохвостых и желтогрудых попугайчиков… Слонов, тюленей, больших кошек или медведей вроде пока не видно – не их время, зато павианы, макаки, мангабеи, гиббоны, олени, тапиры, ламы, жирафы и мангусты пробуждались чуть свет. Каждое утро, перед тем как выйти за главные ворота, я всегда наблюдал одну и ту же картину, обычную и в то же время незабываемую: пирамиду из черепах; переливающуюся всеми цветами радуги мордашку мандрила; величавого молчаливого жирафа; громадную разверстую желтую пасть гиппопотама; попугая ара, который карабкается по прутьям ограды, цепляясь за них клювом и когтями; приветственную дробь, которую исправно отбивает клювом китоглав; колоритную, как у матерого распутника, морду верблюда. Все эти сокровища так и мелькали у меня перед глазами: ведь я спешил в школу. И только после занятий я мог без лишней суеты проверить на себе, каково оно, когда слон обнюхивает твою одежду – нет ли в кармане ореха – или когда орангутан копается у тебя в волосах, думая выудить лакомого клеща, и после обиженно сопит: твоя голова не оправдала-де его надежд. А разве описать словами, как грациозно скользит по воде тюлень, или изящно, подобно маятнику, раскачивается на ветке паукообразная обезьяна, или как бесхитростно крутит головой лев. Нет, слова попросту тонут в этом море красоты. Уж лучше нарисовать себе все это в голове – так оно вернее.
В зоопарке, как и на природе, лучше всего бывать на восходе или на закате. В это время большинство животных бодрствуют. Пробудившись, они выбираются из укрытий и бредут на водопой. Щеголяют своими нарядами. Поют песни. Переглядываются и совершают разные ритуалы. Вот она – награда пытливому наблюдателю. Лично я бог знает сколько времени отдал неспешным наблюдениям за сложнейшими, многообразнейшими проявлениями жизненных форм, облагораживающих нашу планету. Формы эти до того красочны, громкозвучны, причудливы и изысканны, что просто диву даешься.
Про зоопарки я понаслушался почти столько же небылиц, сколько и про веру в Бога. Некоторые несведущие благожелатели полагают, будто на воле животные счастливы, потому что свободны. Такие люди обычно представляют себе большого, статного хищника – льва или гепарда (образ гну или трубкозуба как-то не приходит в голову). Они представляют себе, как дикий красавец зверь рыщет по саванне в поисках, чем бы поживиться… а после чинно переваривает добычу, безропотно принявшую свою участь, или трусит себе помаленьку, чтобы сохранить стать после роскошного пиршества. Они представляют себе, как зверь гордым и нежным взглядом обводит свое потомство, как все его семейство, разлегшись на ветвях деревьев и довольно урча, любуется заходом солнца. Жизнь дикого зверя, думают они, проста, замечательна и содержательна. Потом его отлавливают злодеи – и сажают в тесную клетку. Прощай, вольное счастье. Отныне зверь помышляет только о свободе – и изо всех сил стремится вырваться на волю. Лишенный свободы, притом надолго, зверь превращается в тень самого себя: дух его сломлен. Вот что думают некоторые благожелатели.
На самом же деле все по-другому.
В природе животными движут принуждение и необходимость, в дикой среде все подчинено незыблемой общественной иерархии; страх там неизбывен, а пищи совсем не густо; приходится денно и нощно охранять свою территорию и страдать от назойливых паразитов. Тогда что толку в такой свободе? И то верно: дикие звери не свободны и на воле – ни в пространстве, ни во времени, ни в отношениях между собой. Теоретически, или, попросту говоря, физически, зверь может податься куда угодно, презрев общественные условности и ограничения, свойственные его виду. Но на деле у животных такое встречается еще реже, чем у представителей нашего племени. Попробуйте-ка сказать какому-нибудь лавочнику: давай, мол, бросай свои дела, семью, друзей, общество, прихвати деньжат, самую малость, да кое-какую одежонку на смену и ступай куда глаза глядят! Уж коли человеку, самому храброму и разумному из всех животных, претит скитаться по белу свету эдаким чужаком-изгоем, никому ничем не обязанным, то что говорить о зверях с их-то нравом, куда более консервативным, чем у нашего брата человека? Да-да, так оно и есть: все звери – консерваторы, а то и реакционеры. На малейшие перемены в жизни они реагируют крайне болезненно. Они любят, чтобы все было так, как есть, – день за днем, месяц за месяцем. Они терпеть не могут всяких неожиданностей. Взять хотя бы их территориальные взаимоотношения. У каждого зверя, будь то в зоопарке или в природе, есть свое жизненное пространство, и каждый ход их исполнен смысла, как у шахматных фигур. В том, что ящерица, медведь или олень держатся за свое местообитание, случайности или свободы ничуть не больше, чем в позиции того же слона на шахматной доске. В обоих случаях есть порядок и цель. В природе звери из сезона в сезон передвигаются по одним и тем же тропам, влекомые одними и теми же настоятельными причинами. В зоопарке же, если зверь не лежит в определенное время в привычном месте, значит, здесь что-то не так. Это может означать, что в окружающей обстановке кое-что изменилось, пусть и незаметно. Забудет уборщик шланг – тот валяется, свернувшись клубком, и как будто угрожает. Или вдруг образовалась лужа – и она тревожит зверя. А тут еще лестница отбрасывает тень. Но это может означать и нечто большее. В худшем случае – то, чего директор зоопарка боится больше всего: симптом, предвещающий недоброе, – повод осмотреть помет, расспросить смотрителя, пригласить ветеринара… И все потому, что аист стоит не там, где обычно!
Но давайте пока рассмотрим только одну сторону вопроса.
Если вы нагрянете в чужой дом, вышибете ногой дверь, выдворите жильцов на улицу и скажете: «Проваливайте! Вы свободны! Свободны как птицы! Прочь отсюда! Прочь!» – думаете, они тут же пустятся в пляс и запоют от радости? Ничего подобного. Птицы не свободны. Жильцы, которых вы только что выставили на улицу, непременно возмутятся: «По какому праву ты нас гонишь? Это наш дом. Наш собственный. Мы живем здесь не один год. Сейчас вызовем полицию, негодяй ты этакий!»
Кто не знает пословицу: «В гостях хорошо, а дома лучше»? То же самое определенно ощущают и звери. Они – существа территориальные. И в этом вся суть их психологии. Лишь на своей территории они могут следовать двум насущным требованиям природы: таиться от врагов и добывать пищу и воду. Любой пригодный для жизни уголок зоопарка, хоть и огражденный: клетка, яма, окруженный рвом островок, загон, террариум, вольер или аквариум, – та же территория обитания, только она много меньше природной и находится рядом с жизненным пространством человека. Ну а то, что территория эта действительно крохотная по сравнению с природной средой, вполне очевидно. Природные местообитания огромны отнюдь не по причине вкусовых пристрастий тех или иных животных: такова жизненная необходимость. В зоопарке мы устраиваем животных так же, как сами устраиваемся у себя дома, – стараемся разместить на крохотном пятачке то, что в природе рассредоточено на обширном пространстве. Если в допотопные времена пещера наша была здесь, река – там, на охоту приходилось идти к черту на рога и в том же месте разбивать стоянку, а за ягодами надо было забираться еще дальше, притом что кругом простирались непролазные дебри, поросшие ядовитым плющом и кишевшие львами, змеями, муравьями да пиявками, то теперь «река» течет у вас из крана – только руку протяни, вымыться можно, не отходя от постели, а поесть – там же, где и стряпали; такое жилье легко содержать в чистоте и тепле, да и огородить его – раз плюнуть. Дом – компактная территория, где главные свои потребности мы удовлетворяем в одном месте и в безопасности. Добротное, удобное обиталище в зоопарке – тот же самый дом, только звериный (правда, без камина и прочих удобств, что имеются в каждом человеческом жилище). Обнаружив там все необходимое – наблюдательную площадку, закуток для отдыха, место для кормежки и питья, водоем, уголок для чистки и все такое, сообразив, что больше нет надобности охотиться, что корм берется сам по себе, притом шесть раз в неделю, зверь начинает обживать новое жизненное пространство в зоопарке точно так же, как в природе: обнюхивает его и помечает, к примеру, мочой, сообразно с повадками своего вида. Обосновавшись на новом месте, зверь ощущает себя уже не затравленным приживалой и, уж во всяком случае, не затворником, а полновластным хозяином: в замкнутом пространстве он ведет себя так же, как на воле, всегда готовый защищать свою территорию от незваных гостей и когтями, и клыками. Субъективно огороженное место не хуже и не лучше, чем его местообитание в природе: ежели территория за оградой или на воле ему подходит, значит, так тому и быть, – это такая же простая данность, как пятна на шкуре леопарда. Кто-то мог бы даже поспорить, что зверь, будь он разумен, выбрал бы жизнь в зоопарке, поскольку главное, чем зоопарк отличается от дикой природы, так это сытостью и отсутствием паразитов и врагов в первом случае и вечным голодом да обилием тех же паразитов и врагов – во втором. Сами посудите, что лучше: жить на дармовщину в отеле «Риц», да еще с бесплатным медицинским обслуживанием, или заделаться бродягой, на которого всем наплевать? Впрочем, звери не умеют сравнивать. Будучи по природе существами ограниченными, они принимают все как есть.
В хорошем зоопарке все продумано до тонкостей: так, если зверь предупреждает нас: «Держись подальше!» – пуская в ход мочу и прочие выделения, мы отвечаем: «Сиди где сидишь!» – и для верности отгораживаемся от него решеткой. При таком мирном дипломатическом раскладе и зверь не в обиде, и нам спокойнее, и мы можем без опаски глядеть друг на друга.
В литературе описано немало историй про зверей, которые хоть и могли сбежать на волю, но не сбегали, а если и сбегали, то непременно возвращались обратно. Вот, к примеру, история про шимпанзе: как-то раз не заперли дверь его клетки, и та открылась сама собой. Шимпанзе переполошился не на шутку: как завопит и давай лязгать дверью туда-сюда, силясь, как видно, закрыть, и так до тех пор, пока кто-то из посетителей не кликнул смотрителя – тот мигом прибежал и исправил оплошность. А в одном европейском зоопарке косули всем стадом выбрались из зоопарка через ворота, которые тоже забыли закрыть. Испугавшись посетителей, косули бросились в соседний лес, где обитали их дикие сородичи и где с лихвой хватило бы места и для них. Однако беглянки скоро вернулись обратно – в свой загон. В другом зоопарке плотник принялся ранним утром перетаскивать доски к рабочему месту, и тут, к его ужасу, из предрассветной дымки – медведь, и прямо на него. Плотник бросил доски и дал деру. Смотрители кинулись искать косолапого беглеца… И нашли в его собственной берлоге: он забрался туда так же преспокойно, как и выбрался, – по стволу рухнувшего дерева. Все решили, что его просто спугнул грохот падавших досок.
Впрочем, я ничего не собираюсь доказывать. И не хочу защищать зоопарки. Хоть все их позакрывайте, ради бога (и будем надеяться, последние из могикан животного мира уж как-нибудь да выживут на оставшихся жалких островках дикой природы). Я знаю, зоопарки нынче не в чести. Как и религия. И то и другое внушает людям лишь иллюзию свободы.
Пондишерийского зоопарка больше нет. Звериные ямы засыпали землей, клетки сломали. А если где и остались его следы, то лишь в одном месте – в моей памяти.
5
На моем имени история моего имени не заканчивается. Если тебя зовут Боб, никто и не спросит: «Как это пишется?» Не то что Писин Молитор Патель.
Кто-то думал, что я из сикхов и зовут меня П. Сингх, и удивлялся, почему я не хожу в тюрбане.
Однажды, когда я был уже студентом, мы с друзьями отправились в Монреаль. И как-то вечером мне приспичило заказать пиццу. Я с ужасом подумал: ну вот, сейчас еще один француз будет надо мной подтрунивать, и, когда по телефону спросили, как меня зовут, я сказал: «Я есмь Сущий». Не прошло и получаса, как принесли две пиццы – на имя Яна Хулигана.
Что верно, то верно, мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем, даже имени своего не помним. Взять, к примеру, Симона, нареченного Петром; Матфея по прозванию Левий; Нафанаила, названного Варфоломеем; Иуду – другого, не Искариота, – взявшего имя Фаддей; Симеона, обращенного в Нигера; Савла, ставшего Павлом.
Своего «римского воина» я встретил однажды утром на школьном дворе – мне было тогда двенадцать. Я только-только подошел. И едва он меня заметил, в тупой его голове полыхнуло недобрым огнем. Он вскинул руку, показал на меня пальцем и завопил: «А вот и наш Писун Патель[3 - Игра слов – фр. piscine (бассейн) и англ. pissing (писающий).]пожаловал!»
Все чуть животики не надорвали. Перестали гоготать, только когда мы строем вошли в класс. Я шел последним, увенчанный терновым венцом.
Дети бывают жестоки, это ни для кого не секрет. Мне то и дело приходилось слышать, причем без всякого повода, будто невзначай: «Писун идет. Пора делать ноги!» Или: «Чего к стенке-то отвернулся? Писаешь, что ли?» И все в том же духе. Я цепенел – или просто продолжал свое дело, прикинувшись глухим.
Учителя и те стали меня так называть. Было жарко. В разгар дня урок географии, еще утром казавшийся размером с оазис, вдруг разрастался во всю ширь пустыни Тар[4 - Тар – пустыня в Индии и Пакистане.]; урок истории, такой живой утром, превращался в вязкую грязную лужу; а урок математики, сперва такой стройный, оборачивался хаосом. Сморенные послеполуденной усталостью, обтирая лоб и шею носовым платком, даже учителя без злого умысла, без малейшей охоты кого-то рассмешить, словно забывали про живительную прохладу, наполнявшую мое имя, и принимались его коверкать самым постыдным образом. По едва уловимым признакам я, однако, живо угадывал: ну вот, сейчас начнется. Их языки были словно наездники, которым не под силу совладать с ретивым скакуном. Правда, с первым слогом – долгим Пи – они еще с грехом пополам справлялись, но жара была нестерпимой, и второй слог – син – одолеть уже не могли. Вместо того они с ходу проваливались в бездну хлесткого сун – и все. Я тянул руку вверх, вызываясь ответить, и тут же слышал: «Да, Писун». Чаще всего учитель даже не отдавал себе отчета в том, как меня назвал. Он устало смотрел на меня и недоумевал, почему я молчу как рыба. А иной раз и весь класс, вконец одурев от жары, сидел точно в ступоре.
На последнем году учебы в школе Сент-Джозеф я чувствовал себя как гонимый пророк Мухаммед в Мекке, мир ему. Он задумал бежать в Медину – совершить хиджру, положившую начало мусульманской эре; так вот и я решил сбежать, чтобы и в моей жизни настали новые времена.
Из Сент-Джозефа я перевелся в Пти-Семинер, лучшую в Пондишери частную среднюю английскую школу. Рави тоже там учился, и мне, как всем младшим братьям, пришлось несладко оттого, что я оказался в тени знаменитого братца. Среди своих сверстников по Пти-Семинеру он слыл чемпионом: лучшего подавалы и отбивалы было не сыскать, вот он и стал капитаном первой в городе крикетной команды, эдаким Капилом Девом местного масштаба. И хотя я плавал как рыба, всем на меня было наплевать – так уж устроен человек: приморцы всегда косятся на пловцов, как горцы – на альпинистов. Но я не собирался отсиживаться за чужой спиной и был согласен на любое другое имя, только не «Писун», хоть бы и на «Рави Младшего». Впрочем, у меня был план и получше.
Я приступил к его выполнению в первый же день, как пришел в школу, на самом первом уроке. Со мной учились и другие питомцы Сент-Джозефа. Урок начался с того же, с чего начинаются первые уроки во всех школах, – с переклички. Мы представлялись в том порядке, в каком сидели за партами.
– Ганапатхи Кумар, – сказал Ганапатхи Кумар.
– Випин Натх, – сказал Випин Натх.
– Шамшул Худха, – сказал Шамшул Худха.
– Питер Дхармарадж, – сказал Питер Дхармарадж.
Учитель коротко, с серьезным видом кивал и ставил галочку против каждого имени в журнале. Я сидел как на иголках.
– Аджитх Джиадсон, – сказал Аджитх Джиадсон, за четыре парты от меня…
– Сампатх Сароджа, – сказал Сампатх Сароджа, за три…
– Стэнли Кумар, – сказал Стэнли Кумар, за две…
– Сильвестр Навин, – сказал Сильвестр Навин, прямо передо мной.
И вот моя очередь. Пора сокрушить сатану. Медина, я иду.
Я выскочил из-за парты и устремился к доске. Учитель не успел и рта раскрыть, как я схватил кусок мела и начал писать, приговаривая:
Меня зовут
Писин Молитор Патель,
известный всем как —
я дважды подчеркнул первые две буквы имени —
Пи Патель,
а ниже, для наглядности, дописал:
? = 3,14,
потом начертал большой круг и провел диаметр, как на уроке геометрии.
В классе повисла тишина. Учитель смотрел на доску. Я стоял, затаив дыхание. Наконец учитель сказал:
– Отлично, Пи. Садись. В другой раз, если захочешь отвечать, не забудь спросить разрешения.
– Понятно, сэр.
Он поставил галочку против моего имени. И обратился к следующему мальчугану.
– Мансур Ахамад, – сказал Мансур Ахамад.
Я спасен.
Другие электронные книги автора Янн Мартел
Другие аудиокниги автора Янн Мартел
Жизнь Пи




 0
0